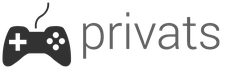Верный спутник легендарного hodge насреддина. Повесть о Ходже Насреддине. Насреддин в Ходженте или Очарованный принц
Леонид
Соловьёв: Повесть о Ходже Насреддине:
ОЧАРОВАННЫЙ ПРИНЦ
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Они уселись на камнях; одноглазый вор начал рассказ о своей удивительной горестной жизни:
— Неудержимая страсть к воровству обнаружилась у меня в самом раннем возрасте. Еще будучи грудным младенцем, я однажды украл серебряную заколку с груди моей матери, и, когда она переворачивала весь дом в поисках этой заколки, я, еще не умевший говорить, исподтишка ухмылялся, лежа в своей колыбели, спрятав драгоценную добычу под одеяло… Окрепнув и научившись ходить, я сделался бичом для нашего дома. Я тащил все, что попадалось под руку: деньги, ткани, муку, масло. Украденное я прятал так ловко, что ни отец, ни мать не могли разыскать пропажи; затем, улучив удобную минуту, я бежал со своей добычей к одному безносому горбатому бродяге, который ютился на старом кладбище, среди провалившихся могил и вросших в землю надгробий. Он приветствовал меня словами: "Пусть у меня вырастет еще один горб спереди, если ты, о дитя, подобное нераспустившемуся бутону, не окончишь свою жизнь на виселице либо под ножом палача!" Мы начинали игру в кости — этот старый горбун со следами всех пороков на дряблом лице, и я, четырехлетний розовый младенец с пухлыми щечками и ясным невинным взглядом…
Вор всхлипнул, обратившись мыслями к золотому невозвратному детству, затем шумно потянул носом, вытер слезы и продолжал:
— Пяти лет от роду я был искусным игроком в кости, но хозяйство наше к тому времени заметно пошатнулось. Мать не могла видеть меня без слез, с отцом делались корчи, и он говорил: "Да будет проклята постель, на которой я зачал тебя! " Но я не внимал ни мольбам, ни упрекам и, оправившись от побоев, принимался за старое. Ко дню моего семилетия наша семья впала в бедность, близкую к нищете, зато горбун открыл на базаре собственную чайхану с игорным тайным притоном и курильней гашиша в подвале под помостом… Видя, что дома взять больше нечего, я обратил свои алчные взоры и нечестивые помыслы к соседям. Я вконец разорил колесника, что жил слева от нас, выкрав у него со дна колодца горшок с деньгами, которые он копил в течение всей жизни; затем я в два месяца с небольшим поверг в полную нищету соседа справа, опустошив его дотла. Никакие замки и запоры не могли меня удержать: я открывал их так же легко, как простую щеколду. Терпение моего отца истощилось, он проклял меня и выгнал из дому. Я ушел, прихватив его единственный халат и последние деньги — двадцать шесть таньга. Мне было в ту пору восемь с половиной лет… Не буду утомлять твоего слуха рассказами о моих странствиях, скажу только, что я побывал и в Мадрасе, и в Герате, и в Кабуле, и даже в Багдаде. Всюду я воровал, — это было моим единственным занятием, и в нем я достиг необычайной ловкости. Тогда вот и выдумал я этот гнусный способ — ложиться на дорогу, притворяясь больным, с целью обворовать человека, проявившего ко мне милосердие. Скажу не хвастаясь, что в презренном воровском ремесле вряд ли со мною может сравниться кто-либо из воров не только Ферганы, но и всего мусульманского мира!
— Подожди! — прервал его Ходжа Насреддин. — А знаменитый Багдадский вор, о котором рассказывают такие чудеса?
— Багдадский вор? — Одноглазый засмеялся. — Знай же, что я и есть тот самый Багдадский вор!
Он помолчал, наслаждаясь изумлением, отразившимся на лице Ходжи Насреддина, потом его желтое око заволоклось туманом воспоминаний.
— Большая часть рассказов о моих похождениях —
досужие выдумки, но есть и правда. Мне было восемнадцать лет, когда я
впервые попал в Багдад, в этот сказочный город, полный сокровищ и
лопоухих дураков, владеющих ими. Я хозяйничал в лавках и сундуках
багдадских купцов, как в своих собственных, а напоследок забрался в
сокровищницу самого калифа. Не так уж и трудно было в нее забраться, по
правде говоря. Сокровищница охранялась тремя огромными неграми, каждый
из которых в одиночку мог бороться с быком, и считалась поэтому
недоступной для воров и грабителей. Но я знал, что один из негров глух,
как старый пень, второй — предан курению гашиша и вечно спит,
даже на ходу, а третий наделен от природы такой невероятной трусостью,
что шуршание ночной лягушки в кустах повергает его в дрожь и трепет. Я
взял пустую тыкву, прорезал в ней отверстия, изображающие глаза и
оскаленный рот, посадил тыкву на палку, вставил внутрь горящую свечу,
облек все это белым саваном и поднял ночью из кустов навстречу
трусливому негру. Он судорожно вскрикнул и упал замертво. Сонливый не
проснулся, глухой не услышал; с помощью отмычек я беспрепятственно
вошел в сокровищницу и вынес оттуда столько золота, сколько мог
поднять. Наутро весть об ограблении калифской сокровищницы разнеслась
по всему городу, а затем — по всему мусульманскому миру, и я
стал знаменит.
— Рассказывают, что впоследствии Багдадский вор женился на
дочери калифа, — напомнил Ходжа Насреддин.
— Чистейшая ложь! Все эти россказни обо мне, относящиеся к различным принцессам, — вздор и выдумки. С детских лет я презирал женщин, и — благодарение аллаху! — никогда не был одержим тем странным помешательством, которое называют любовью. — Последнее слово он произнес с оттенком пренебрежения, видимо немало гордясь своим целомудрием. — Помимо того, женщины, когда их обворуешь даже на самую малость, ведут себя так непристойно и поднимают такой невероятный крик, что человек моего ремесла не может испытывать к ним ничего, кроме отвращения. Ни за что в мире я не женился бы ни на какой принцессе, даже самой прекрасной!
— Подождем, пока ты не изменишь к лучшему своего мнения о китайской либо индийской принцессе, — вставил Ходжа Насреддин. — Тогда я скажу: полдела сделано, остается только уговорить принцессу.
Вор понял и оценил насмешку; его плоская шельмовская рожа с бельмом на одном глазу и с огромным синяком под другим осветилась ухмылкой:
— Можно подумать, что Ходжа Насреддин подсказал тебе столь тонкий и язвительный ответ.
Услышав свое имя. Ходжа Насреддин насторожился, опасливо оглянулся. Но вокруг было ясное весеннее безлюдье; скользили по бурым склонам тени облаков, плывущих на юг, висели в солнечном воздухе на мерцающих крыльях стрекозы; рядом с Ходжой Насреддином примостилась на горячем камне изумрудная ящерица и дремала, приоткрывая время от времени живые черные глазки с узеньким золотым ободочком.
— Тебе приходилось встречать Ходжу Насреддина в твоих воровских скитаниях?
— Приходилось, — ответил одноглазый. — Невежественные, малосведущие люди часто приписывают мне его дела, и — наоборот. Но в действительности между нами нет и не может быть никакого сходства. В противоположность Ходже Насреддину, я провел всю жизнь в пороках, сея в мире только зло и нисколько не заботясь об усовершенствовании своего духовного существа, без чего, как известно, невозможен переход из бренного земного бытия в иное, высшее состояние. Своими гнусными делами я обрекал себя начать сызнова весь круг звездных странствий.
Ходжа Насреддин не верил ушам: одноглазый говорил словами старого дервиша из ходжентской мечети Гюхар-Шау! "Неужели и он, этот вор, причастен к тайному братству Молчащих и Постигающих?" — подумал Ходжа Насреддин, но тут же отверг эту мысль, как ни с чем несообразную.
Догадки, одна другой невероятнее, теснились в его уме.
— Таков я, — продолжал одноглазый сокрушенным голосом. — Только круглый невежда может искать сходства между мною и Ходжой Насреддином, вся жизнь которого посвящена деятельному добру и послужит примером для многих поколений в предстоящих веках.
Последние сомнения исчезли: он повторял слова старого нищего. "Знает ли он мое имя?" — раздумывал Ходжа Насреддин, проницательно глядя в лицо вору, стараясь уловить хотя бы слабую тень притворства.
— Скажи, а где встречался ты с Ходжой Насреддином?
Подозрения не оправдывались; на этот раз совесть одноглазого была чиста: он в самом деле не знал, кто сидит на камне перед ним.
— Я встретил его в Самарканде. С душевным прискорбием должен сознаться, что и эту единственную встречу я ознаменовал гнусным делом. Однажды весной, шныряя по самаркандскому базару, я услышал шепот: "Ходжа Насреддин! Ходжа Насреддин!" Шептались двое ремесленников; устремив свой единственный глаз по дороге их взглядов, я увидел перед одной лавкой ничем по виду не примечательного, средних лет человека, державшего в поводу серого ишака. Этот человек покупал халат и собирался расплачиваться. Его лицо я увидел только на мгновение, мельком. "Так вот он, прославленный Ходжа Насреддин, возмутитель спокойствия, имя которого благословляют одни и проклинают другие!" — подумал я. И в мою душу закралось дьявольское искушение — обокрасть его. Нет, не ради наживы, ибо я в то время имел достаточно денег, но из одного лишь гнусного воровского честолюбия. "Пусть я буду единственным в мире вором, который может похвалиться, что обокрал самого Ходжу Насреддина!" — сказал я себе, и ни мало не медля приступил к осуществлению своего замысла. Тихонько, сзади, я подошел к ишаку и гладкой палочкой засунул ему под хвост вывернутый наизнанку стручок красного едкого перца. Почуяв в некоторых частях своего тела невыносимое жжение, ишак начал вертеть головой и хвостом, а затем, решив, что под его задом разложили костер, — заревел, вырвался из рук Ходжи Насреддина и бросился в сторону, опрокидывая на пути корзины с лепешками, абрикосами и черешнями. Ходжа Насреддин погнался за ним; возникло смятение; воспользовавшись этим, я без помехи взял халат с прилавка…
— Так это был ты, о потомок нечестивых, о сын греха и позора! — воскликнул Ходжа Насреддин с пылающими глазами. — Клянусь аллахом, никогда и никто до тебя не устраивал надо мною подобных шуток! Ты едва не свел с ума нас обоих, — я пролил десять потов, стараясь утихомирить его брыкание и вопли, прежде чем догадался заглянуть ему под хвост! Ах, если бы ты попался мне тогда под горячую руку, — после этого даже канибадамские сапоги показались бы тебе мягче пуховых подушек!
Забывшись, он своим негодованием выдал себя; когда опомнился — было уже поздно: вор понял, с кем судьба столкнула его на дороге.
Трудно описать чувства одноглазого вора. Он упал перед Ходжой Насреддином на колени, схватил полу его халата и приник губами к ней, словно паломник при встрече со святым шейхом.
— Пусти! — кричал Ходжа Насреддин, дергая халат. — Вы что, сговорились обязательно сделать из меня святого? Я самый обычный человек на этой земле, — сколько вам раз повторять! И не хочу быть никем иным: ни шейхом, ни дервишем, ни чудотворцем, ни звездным странником!
— Да будет благословенна во веки веков эта дорога, на которой мы встретились! — твердил одноглазый. — Помоги мне, о Ходжа Насреддин, мое спасение в твоих руках!
— Пусти! — В запальчивости Ходжа Насреддин дернул халат так, что пола затрещала. — Где это записано, что я обязан спасать всех нищих и всех воров, шатающихся по белу свету? Хотел бы я знать, кто спасет меня самого от вас?
Но, видимо, судьба и в самом деле записала где-то в своих книгах, что Ходже Насреддину за сорокалетним рубежом надлежит заниматься духовным спасением заблудших; пришлось ему вновь усесться на тот же камень и дослушать до конца повесть одноглазого вора.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
— Дальнейшие события моей жизни протекали стремительно, — продолжал вор. — Многое я пропускаю, буду говорить только о самом главном. Я пребывал в своих гибельных пороках и заблуждениях, пока не встретил одного благочестивого старца, мудрые поучения которого вожглись в мою грудь, как Сулейманова печать. Этот старец обнажил передо мною всю мерзость моих пороков и указал способ очищения, но я, глупец, не сумел им воспользоваться. Расскажу все как было, по порядку. Пять лет назад, в конце зимы, я пришел в Маргелан — город шелка. Шайтан соблазнил меня запустить руку в пояс к афганцу; на этом я попался. Афганец меня схватил, я вырвался, в погоню за мной кинулся весь базар; я метался, как перепел в сетке. Вероятно, этот день был бы в моей жизни последним, но, забежав в один переулок, я услышал слабый старческий голос:
"Прячься здесь!.." У дороги сидел какой-то старый нищий. "Прячься!" — повторил он. Мы обменялись халатами; я сел на его место и низко опустил голову, чтобы скрыть лицо, а нищий перешел через дорогу и сел напротив. Преследователи, ворвавшиеся в переулок, не обратили внимания на двух смиренных нищих, промчались мимо, рассыпались по дворам. Воспользовавшись этим, старик вывел меня из переулка и укрыл в свое убогом жилище.
— Остановись, — прервал Ходжа Насреддин: все уже было ему ясно. — Этот нищий задумал обратить тебя на путь добродетели, долго рассказывал о звездных странствиях нашего духа, о конечной победе добра на земле через пятьсот тысяч лет, но как только пропели полуночные петухи, он умолк и не произнес больше ни слова.
— Неужели это был ты? — Одноглазый в страхе отодвинулся от Ходжи Насреддина. — Неужели это правда, что я слышал о тебе, — будто ты можешь принимать любой облик, какой захочешь?
— Продолжай свой рассказ. Почему же ты не последовал по благочестивому пути, указанному старцем?
— О горе! — воскликнул одноглазый. — Твой вопрос вонзается в мое сердце подобно отравленному шипу! Знай же, что я не остался глух к поучениям старца. Подобно жаркому пламени, его слова растопили свинец моих заблуждений. Перед тем как пропели полуночные петухи и старец умолк, я, заливаясь слезами, раскаялся. Охваченный благоговейным трепетом, я дал ему клятву исправиться, вступить на стезю добродетели, с тем чтобы никогда уж больше не покидать ее. Тогда-то и назвал старец твое имя и открыл мне великий смысл твоего земного бытия. "Посмотри на Ходжу Насреддина! — говорил он. — Вот человек, который всю свою жизнь щедро обогащает мир добром, не думая и не заботясь об этом, — просто потому, что не умеет жить иначе. Если ты сможешь уподобиться ему хотя бы в ничтожной мере — ты спасен для будущего высшего бытия в иных воплощениях". Я покинул лачугу старца на крыльях надежды, мое сердце светилось в груди. Клянусь, — уже давно я вступил бы на предуказанную им тропу, если бы дьявол, этот известный враг людей, этот коварный гаситель всех наших спасительных устремлений и благородных порывов, не поспешил подстелить мне под ноги свой мерзкий, жилистый, облезший хвост, наступив на который я и поскользнулся!.. Сжигаемый нетерпением поскорее начать новую жизнь, я решил отправиться в Коканд, где меня знали меньше, чем в других городах. У меня было около четырех тысяч таньга, в моем воображении пленительно рисовалось будущее, преисполненное одной только добродетели, без малейшей примеси греха. Я предполагал открыть в Коканде чайхану, застелить ее коврами, повесить клетки с певчими птицами и в тишине, в прохладе, под нежный плеск фонтана, вести с гостями благочестивые беседы, наполняя их души светом истины, открытой мне старцем. Для себя я определил самый скромный образ жизни, а весь избыток доходов предназначил сиротам и вдовам. Соизмерив свои деньги с предстоящими затратами на покупку чайханы, посуды, ковров и прочего, я убедился, что денег мне хватает на все, кроме музыкантов, которые играли бы на дутарах и тонкими голосами пели благонравные песни, содержащие в себе назидательный смысл. Недоставало мелочи, каких-нибудь трехсот-четырехсот таньга. Вот здесь-то дьявол и выкопал яму соблазна на моем пути, сведя меня по дороге в Коканд с одним искусным игроком в кости. "Сыграю в последний раз, — сказал я себе. — Этот грех мне простится, ибо я употреблю выигранные деньги на хорошее, праведное дело; если же у меня после выигрыша окажется избыток денег — я раздам его бедным". Казалось бы, человек, имеющий такие благочестивые намерения, вправе ожидать помощи свыше в игре, но случилось не так…
— Дальнейшее мне известно, — сказал Ходжа Насреддин. Вы играли всю ночь, а к утру ты остался без гроша в кармане. Твоя чайхана, ковры, клетки с птицами, фонтаны, музыканты, благонравные беседы и назидательные песни — все уплыло в карман к счастливому игроку. Вдобавок, ты отдал ему сапоги, халат, тюбетейку и даже, помнится, рубаху, оставшись в одних штанах.
— Во имя пророка! — воскликнул одноглазый. — Какое всеведение! Откуда ты знаешь — даже о рубахе? Значит, верно, что по глазам любого человека ты читаешь его прошлое и будущее?
— По твоему единственному глазу я могу прочесть только прошлое; что касается будущего — оно скрыто за твоим бельмом. Продолжай.
— Что оставалось мне делать после проигрыша? Расстаться навсегда с мечтами о добродетельной жизни? От подобных мыслей мир заволакивался черным дымом передо мною. "Нет! — решил я. — Надо быть твердым в своих устремлениях к добру. Это дьявол сбивает меня, в отчаянии, что моя душа ускользает из его хищных лап. Лучше я совершу еще один, самый последний грех, но вступлю на стезю, предуказанную старцем!" С таким твердым решением я пришел в Коканд, и здесь услышал новость, смутившую разум. Оказывается, в Коканде недавно воцарился новый хан, и этот город, бывший ранее цветущим садом для всех воров и мошенников, сделался теперь для них бесплодной пустыней. Новый хан завел такие жестокие порядки, что ворам не оставалось ничего иного, как только бежать из города или бросать свое ремесло. Хан с позором выгнал со службы старого начальника городской стражи, за которого в течение долгих лет не уставали молиться в мечетях все кокандские воры, и поставил нового — человека деятельного, честолюбивого и бессердечного, по имени Камильбек. Новый начальник, ища ханского благоволения, поклялся извести в городе всяческое воровство с корнем; ко времени моего прибытия в Коканд он вполне успел в этом жестоком намерении. Он наводнил город множеством искусных шпионов и свирепых стражников; нельзя было украсть ничего, даже горошины из мешка, чтобы тут же не попасться им в лапы. Пойманным отрубали кисть правой руки и на лбу каленым железом выжигали клеймо; если даже иному ловкачу и удавалось украсть какую-нибудь мелочь, то некуда было ее девать, потому что за скупку краденого полагалось такое же наказание, и все боялись. Таким образом, на моем пути к праведной жизни возникло новое препятствие — этот жестокий начальник со своими бесчеловечными порядками. Несколько дней провел я в тягостном раздумье, не зная, что делать, с чего начать. Между тем подошел уже май, близился праздник дедушки Турахона, гробница которого находится, как тебе известно, неподалеку от Коканда. И вот гнусный дьявол, в своем неутомимом стремлении овладеть моей душой, внушил мне гибельную мысль: воспользоваться этим праздником, чтобы раздобыть денег, необходимых для вступления на путь благочестия…
Но покинем на короткое время одноглазого вора и Ходжу Насреддина, — расскажем о весеннем празднике дедушки Турахона, так как без этого рассказа многое осталось бы непонятным в нашем дальнейшем повествовании.
По старинному преданию, Турахон, родом кокан-дец, остался уже в пятилетнем возрасте круглым сиротой и пошел скитаться по базару, выпрашивая милостыню. До самого дна испил он горькую чашу безысходного сиротства; такое испытание может либо ожесточить человека, превратив его сердце в камень, либо направить к возвышенной человеческой мудрости, если обиду и горечь за себя он — силой своего духа — сможет переплавить в обиду и горечь за всех. Так и случилось с Турахоном: в зрелость он вошел с душою, раскаленной гневом к жестокосердым богачам и жалостью к бедным, особенно к детям, бессильным помочь себе.
Ему было двадцать пять лет, когда он с одним караваном ушел из Коканда; вернулся же в родные края уже сорокалетним. Все это время он провел в Индии и Тибете, изучая тайны врачевания, и достиг в своем деле необычайных высот. Рассказывали, что он исцеляет прикосновением, говорили еще, что с богатых людей он неукоснительно берет за исцеление большую плату, но тут же все полученное тратит на детей бедноты.
Он ходил всегда сопровождаемый толпой ребятишек всех возрастов; когда у него бывали деньги, он подходил к лавке торговца игрушками или сластями и покупал ее сразу всю для своих маленьких друзей. Если же денег у него не было, а на глаза попадался какой-нибудь полуголый босой малыш, Турахон без дальних слов вел его сначала к продавцу халатов, затем к продавцам сапог, поясов, тюбетеек и всюду произносил только два слова: "Будь милосердным!" И продавцы, трепеща под взыскательным взглядом старца, — а ко взрослым он был весьма строг, — обували и одевали ребенка, не осмеливаясь даже заикнуться о деньгах, памятуя, что дедушка Турахон волен не только исцелять, но и наказывать жестокосердых болезнями.
Когда он умер, тысячи детей, заливаясь слезами, провожали старца на кладбище. Ученые мударрисы и муллы не согласились причислить Турахона к сонму праведников: он-де не соблюдал постов, нарушал-де правила и установления ислама и за всю жизнь не пожертвовал ни гроша на украшение гробниц, говоря, что живым беднякам деньги нужнее, чем мертвым шейхам. Но простой народ сам, своей властью, признал Турахона праведником; слава его распространилась далеко за пределы Коканда, по всему Востоку. А майский праздник его имени принадлежал детям.
Поверье говорило, что в канун своего праздника дедушка Турахон ходит по дворам и разносит ребятишкам, достойным его внимания, подарки, оставляя их в подвешенных для того тюбетейках. Дети начинали готовиться к торжественному дню задолго до весны. Еще дули пронизывающие ледяные ветры, еще летел с мглистого неба сухой колкий снег, еще стояли черными, безжизненными сады и звенела под арбными колесами земля, превращенная морозом в камень, — а ребятишки стайками уже собирались по утрам за стенами, заборами и в других местах, укрытых от ветра, и с посиневшими, хлюпающими носами, ежась в своих халатиках и зажимая ладонями уши, вели степенные длительные разговоры о Турахоне. Ребятишки знали с достоверностью, что он весьма разборчив, — получить от него подарок было делом очень хитрым и удавалось не всякому. Для этого за пятьдесят дней, предшествующих празднику, требовалось:
Во-первых, ни разу не огорчить родителей, вовторых, ежедневно совершать какое-нибудь одно доброе дело, например помочь слепому перейти мостик или донести какому-нибудь старику его поклажу, в-третьих, на эти пятьдесят дней нужно было отказаться от сладостей, что так соблазнительно красовались на лотках разносчиков, и накопить денег для покупки новой красивой тюбетейки (известно было, что дедушка Турахон не любит старых, засаленных тюбетеек и обычно оставляет их без внимания, делая исключение лишь для самых бедных детей).
В течение пятидесяти дней во всех семьях царили тишина и благонравие. Дети беспрекословно слушались, ходили на цыпочках и разговаривали полушепотом, боясь прогневить дедушку Турахона. Даже самые отчаянные шалуны превращались на это время в кротких овечек; не слышно было воплей, криков, не видно драк, игры в камешки и лихих скачек в развевающихся халатиках, с гиканьем и свистом, на спинах друг у друга.
А в канун праздника повсюду начиналась великая суета и беготня — таинственные встречи, пугливый шепот, учащенное биение маленьких сердец. Дело в том, что муллы весьма неодобрительно относились к этому празднику, а в иных местах — запрещали его совсем, что придавало ему в глазах юных почитателей Турахона еще большую заманчивость. Нужно было пришить к тюбетейке три ниточки: белую — знак добра, зеленую — знак весны и синюю — знак неба; затем, с наступлением ночи, тайно выйти из дому куда-нибудь в сад или виноградник и там повесить тюбетейку, стоя лицом к усыпальнице Турахона и не отрывая взгляда от созвездия Семи Алмазов. Затем следовало трижды прочесть тайные слова, обращенные к Турахону, и трижды поклониться земно, — и только совершивши все это, можно было возвращаться домой и ложиться спать. Строжайше запрещалось вскакивать ночью и бегать к тюбетейкам, — вот почему эта ночь для многих маленьких нетерпеливцев была мучительна.
Зато праздничное утро искупало все! Радостный визг стоял в каждом доме. Одним дедушка Турахон оставлял в подарок шелковые халатики, другим — сапожки с красными или зелеными кисточками, третьим — игрушки и сласти; девочкам — туфли, перстеньки, платья… Вот каким он был добрым и заботливым, дедушка Турахон! И целый день в садах, в легком зеленом дыму весенней листвы, кружились пестрые детские хороводы и слышалась песенка, сложенная детьми в честь своего покровителя:
Открывает южный ветер
Вишен белые цветы,
День встает, лучист и светел,
Солнце греет с высоты
И под ясный свист синицы,
Под весенний гром и звон
Просыпается в гробнице
Добрый старый Турахон
Достает он свертки шелка,
Ниток яркие пучки,
В руки он берет иголку,
Надевает он очки.
Дни весенние крылаты, —
Сна не зная от забот,
Шьет он мальчикам халаты,
Платья девочкам он шьет
Не склоняя на подушки
Убеленную главу,
Он берется за игрушки,
За конфеты и халву…
И когда всем детям снится
В лунном свете майский сон —
Он выходит из гробницы,
Добрый старый Турахон.
Подсмотрели мы с тобою:
Со своим большим мешком
Благоносною стопою
Ходит он из дома в дом…
За подарки в день счастливый,
Ясный, теплый, золотой,
Мы поем ему "спасибо"
В нашей песенке простой.
Пусть же, песенке внимая,
Погружаясь снова в сон,
В этот день веселый мая
Улыбнется Турахон!..
Вернемся теперь к покинутым нами Ходже Насреддину и его одноглазому спутнику. За время нашего отсутствия ничего здесь, на дороге, не изменилось: они по-прежнему сидели на камнях, светило солнце, скользили по склонам тени облаков, висели в теплом воздухе на мерцающих крыльях стрекозы, грелись на солнцепеке ящерицы.
Одноглазый продолжал свой рассказ:
— Я внял коварным нашептываниям дьявола. В ночь, предшествующую празднику Турахона, я отправился в обход окрестных дворов, садов и виноградников. Везде я собирал тюбетейки с подарками. Несколько раз я возвращался в свое логово, находившееся в подвале заброшенной сторожевой башни, опустошал мешки и опять уходил за добычей. К рассвету я был обладателем нескольких тысяч тюбетеек, множества детских халатиков, сапожек с кисточками, платьев, туфелек, браслетов, бус и прочей мелочи. Глядя на пеструю груду собранного мною добра, я думал: "Здесь хватит на две чайханы с музыкантами! И я могу продавать все это беспрепятственно. Кто осмелится опознать свою вещь? Ведь празднование памяти дедушки Турахона запрещено в Коканде, — кто захочет попасть из-за какихто халатиков и тюбетеек в тюрьму?" Вот до каких мерзких и гнусных помыслов я дошел!.. Утомленный бессонной ночью, я незаметно задремал.
Пробуждение было ужасным! Все мое логово дрожало и качалось, озаряемое каким-то странным, вздрагивающим, синевато-летучим блеском. И в этом грозном блеске передо мною стоял сам праведный Турахон! Его лицо пылало гневом, глаза прожигали насквозь, голос гремел, подобно горному водопаду. "О нечестивец! — возгласил он. — О мерзостный грешник и негодяй! Ты осмелился украсть у детей их чистую радость; вместо криков восторга и ликования, столь милых моему сердцу, теперь повсюду слышен плач и льются слезы! Ты осмелился наложить черное пятно на мое беспорочное имя, — что скажут теперь обо мне дети, когда не найдут не только подарков, но и своих новых тюбетеек? Они скажут: дедушка Турахон — лжец, обманщик и вор; слышишь ли ты, о зловонное вместилище всех людских пороков и гнусностей! " Оцепенев от страха, я внимал гневной речи праведника. "Выслушай свой приговор, презренный, достойный питаться лишь мясом дохлых гиен! — загремел он. — Отныне я обрекаю тебя всегда и везде воровать, как бы ни опротивело тебе это дело. Ты почувствуешь отвращение к воровству и все-таки будешь воровать! Каждый год перед моим праздником ты будешь подвержен жесточайшим болям в животе, от которых сможешь избавляться только одним способом — воровством! Боль пройдет, но зато каким ужасным мучениям совести подвергнешься ты всякий раз по совершении кражи! Целый год воздерживаться, целый год жаждать добродетели, даже приблизиться к ней, — и все-таки в конце года украсть, разрушив этим сразу все здание своих устремлений к добру и своих воздержаний от зла!.. И все это продолжится до тех пор, пока ты не искупишь передо мною своей вины, а каким способом должен ты искупить ее — сам догадайся!" И вслед за этими заключительными словами Турахона грянул новый громоподобный удар, покачнувший до основания мое логово. Раздался ужасный треск, на меня посыпалась глина; обезумев, с помутившимся взором я выскочил из подвала, — и в то же мгновение башня рухнула, погребая под собою все наворованное мною добро.
— Это было пять лет назад, в начале мая, — подхватил Ходжа Насреддин. — Именно тогда сильное землетрясение, сопровождаемое небывалой грозой, разрушило в Коканде много домов. Оно отозвалось даже и в Ходженте: там рухнула старинная мечеть Гюхар-Шад, та самая, где ныне сидит один старый дервиш…
Но здесь он остановился, решив пока не говорить одноглазому о своем знакомстве с ходжентским старцем.
— Так вот, оказывается, кто был виновником этого землетрясения — ты!
— Увы, я, — подтвердил одноглазый. — Потом я узнал, что надгробный камень в усыпальнице Турахона дал в этот день трещину. Он лопнул, когда праведник, обуянный гневом, выходил из могилы, чтобы покарать меня. С тех пор я пребываю в жалком и несчастном положении. Каждый год в это время, перед праздником Турахона, меня постигают жесточайшие муки, которым ты был свидетель. Избавиться от них я не могу иначе, как только путем воровства. Теперь ты понимаешь, что разумел я под неким целительным действием, не требующим вмешательства лекаря, и понимаешь, как очутился кумган в твоей сумке.
— Теперь понимаю. А скажи, не возобновляется ли твоя болезнь, если тебя ловят и отбирают украденное?
Об этом Ходжа Насреддин осведомился неспроста — на всякий случай, в предвидении будущего.
— Нет, не возобновляется. Но когда меня ловят — всякий раз весьма жестоко бьют. Сегодня били за кумган…
— И меня заодно с тобой, — напомнил Ходжа Насреддин.
— А год назад андижанские стражники били за молитвенный коврик…
— И стражники отпустили тебя? Не посадили в подземную тюрьму?
— Разве ты не слышал сказки о глупом коте? — усмехнулся одноглазый. — У одного человека в доме завелись мыши. Чтобы избавиться от них, он подобрал где-то бездомного ободранного кота. Глупый кот за одну ночь истребил всех мышей; наутро хозяин, видя, что больше никто не будет причинять ущерба его запасам, выгнал кота на улицу из уютного дома, где были мягкие подушки, теплый очаг и блюдечко с молоком… Стражники умнее кота!
Посмеявшись над этой сказкой. Ходжа Насреддин спросил одноглазого, зачем направляется он в Коканд, какие дела ждут его там. Вор ответил, что ежегодно весной совершает паломничество к усыпальнице Турахона и проводит несколько часов у надгробия, обливаясь слезами раскаяния и умоляя о прощении. Но до сих пор все его мольбы оставались втуне: праведник неумолим.
— Жду твоего совета.
Ходжа Насреддин задумался. Его первоначальное намерение расстаться с одноглазым — поколебалось. И причиной тому был старый ходжентский нищий, как бы связавший воедино их судьбы. "Одного или двух мне спасать от возвращения в низшее состояние — разница невелика, — решил Ходжа Насреддин. — Кроме того, он узнал мое имя, поэтому безопаснее будет держать его на глазах".
— Хорошо, ты будешь со мною. Посмотрим, не удастся ли нам вдвоем совместными усилиями умилостивить дедушку Турахона и смирить его праведный гнев. Но ты должен принести клятву — совершать впредь известное тебе целительное действие не иначе как с моего позволения.
Одноглазый с готовностью принес клятву. Его благодарностям и славословиям не было конца.
Между тем солнце уже давно перешло за дневную черту, окрасило снега на вершинах в нежный палевый цвет, расстелило по горам густые лиловые тени. Ветер посвежел, стрекозы и мошки исчезли, ящерицы попрятались в камни. Ходжа Насреддин чувствовал томление в пустом желудке, кроме того, нужно было подумать и о ночлеге.
— Вперед! — сказал он, садясь на ишака. — Мы потратили здесь немало времени, а до Коканда еще далеко.
Хорошо отдохнувший ишак мотнул головой, закрутил хвостом, и они двинулись.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Вблизи Коканда, в низине, где жители южной части города сеяли рис, были в те времена теплые озера, питавшиеся водами горячих подземных источников. Здесь весна начиналась на целую неделю раньше: вокруг сады еще чернели, а на озерах — цвели, вокруг — зацветали, а здесь уже зеленели, согретые солнцем сверху и горячими родниками снизу.
Отсюда можно заключить, что дедушка Турахон не без умысла избрал эту низину для своей усыпальницы: здесь он мог на целую неделю раньше браться за свои разнообразные дела — портновские, сапожные, игрушечные и халвяные. Его скромная гробница была украшена только двумя черными конскими хвостами, укрепленными на шестах перед входом; вокруг теснились старые корявые карагачи, нижние ветви которых были увешаны пестрой бахромой шелковых ленточек, принесенных сюда почитателями праведника. Обилие этих ленточек свидетельствовало, что память о нем не тускнеет в сердцах мусульман.
Перед гробницей Ходжа Насреддин спешился и благоговейно поклонился Турахону, которого искренне чтил. Одноглазый остался далеко позади; он полз по дороге на коленях, посыпая голову пылью и горестно крича: "О милосердный Турахон, прости меня во имя аллаха! " Его покаянный голос едва слышался за карагачами.
Пришел старик, хранитель гробницы, — в лохмотьях, с лицом желтым и сморщенным, как вяленая урю-чина, но с глазами, в которых светился скрытый огонь. Открылась резная дверь — ветхая, потемневшая, насквозь изъеденная древесными червями. Из прохладной полутьмы пахнуло древностью — странным запахом, проникающим в душу. Сняв сапоги, надев мягкие туфли, услужливо предложенные стариком. Ходжа Насреддин вошел в гробницу. Белые стены из грубо отесанного камня, без украшений, без росписи, поддерживали купол с двумя узкими зарешеченными окнами; полутьму просекали два тонких лезвия света, скрещиваясь на каменном надгробии, расколотом поперек. От входа к надгробию шла приподнятая над полом каменная дорожка шириною в два локтя, а по обеим сторонам ее лежал на полу серо-зеленоватый прах, скопившийся здесь веками. По обычаю, он сохранялся в неприкосновенности: великим кощунством было бы оставить на нем свой след. И такая тишина была в гробнице, что Ходжа Насреддин услышал звон собственной крови в ушах; он приблизился к надгробию, склонился над ним, поцеловал камень, под которым покоилось одно из самых добрых сердец, когда-либо бившихся на земле.
— О милосердный Турахон, неужели моему греху никогда не будет искупления? — послышались близкие вопли, и в гробницу вполз одноглазый. Голова его была серой от пыли, плоское лицо разодрано в кровь, он упал грудью на камень и затих.
Ходжа Насреддин вышел, оставив его наедине с Турахоном. Прошел час, второй. Одноглазый не выходил из гробницы. Ходжа Насреддин терпеливо ждал, сидя на ветхом истертом коврике в тени карагача и беседуя со стариком хранителем о дервишизме и его преимуществах перед всяким иным образом жизни.
— Ничего не иметь, ничего не желать, ни к чему не стремиться, ничего не бояться, а меньше всего — телесной смерти, — говорил старик. — Как иначе можно жить в этом скорбном мире, где ложь громоздится на ложь, где все клянутся, что хотят помочь друг другу, но помогают только умирать.
— Это не жизнь, а бесплотная тень ее, — возражал Ходжа Насреддин. — Жизнь — это битва, а не погребение себя заживо.
— Что касается внешней телесной жизни, то слова твои, путник, вполне справедливы, — отозвался старик. — Но ведь есть еще и внутренняя, духовная жизнь — единственное наше достояние, над которым не властен никто. Человек должен выбирать между пожизненным рабством и свободой, что достижима лишь во внутренней жизни и только ценой величайшего отречения от телесных благ.
— Ты нашел ее?
— Да, нашел. С тех пор как я отказался от всего излишнего — я не лгу, не раболепствую, не пресмыкаюсь, ибо не имею ничего, что могли бы у меня отнять. Разве мою старческую телесную жизнь? Пусть возьмут; говоря по правде, я не очень ею дорожу… Вот — гробница Турахона; муллы не любят его, стража преследует его почитателей, но я, как видишь, не боюсь открыто служить ему, — вполне бескорыстно, из одного лишь внутреннего влечения.
— Что бескорыстно, я вижу по твоей одежде, — заметил Ходжа Насреддин, указывая на халат старика, неописуемо рваный, пестрящий заплатами, с бахромою внизу — сшитый как будто из тех ленточек и тряпочек, что висели вокруг на деревьях.
— Я не прошу многого от жизни, — продолжал старик. — Этот рваный халат, глоток воды, кусок ячменной лепешки — вот и все. А моя свобода всегда со мною, ибо она — в душе!
— Не в обиду тебе, почтенный старец, будь сказано, но ведь любой покойник еще свободнее, чем ты, ибо ему вовсе уж ничего не нужно от жизни, даже глотка воды! Но разве путь к свободе это обязательно — путь к смерти?
— К смерти? Не знаю… Но к одиночеству — обязательно.
Помолчав, старик закончил со вздохом:
— Я давно одинок…
— Неправда! — отозвался Ходжа Насреддин. — В твоих речах я расслышал и боль за людей, и жалость к ним. Твоя жалость будит отголосок во многих сердцах, — значит, ты не одинок на земле. Живой человек одиноким не бывает никогда. Люди не одиноки, они — едины; в этом — самая глубокая истина нашего совместного бытия!
— Утешительные выдумки! От холода, ветра, дождя люди защищаются стенами, от жестокой правды — различными выдумками. Защищайся, путник, защищайся, ибо правда жизни страшна!
— Защищаться? Нет, почтенный старец, — я не защищаюсь, я нападаю! Везде и всегда я нападаю, в каком бы обличье ни предстало мне земное зло! И если мне суждено пасть в борьбе, никто не скажет, что я уклонялся от боя! И мое оружие перейдет в другие руки, — уж я позабочусь об этом!
Горячее слово Ходжи Насреддина было прервано появлением одноглазого из гробницы. Его лицо было тихим и бледным. Пока он умывался у водоема, старик рассказал:
— Каждый год этот несчастный высаживает возле гробницы черенок розы, в надежде, что он примется, и это будет знаком прощения. Но до сих пор ни один черенок не принялся. У меня выступают слезы на глазах при виде этого человека; ты правильно угадал во мне жалостливость к людям, о путник! Я освободился от корыстолюбия, тщеславия, зависти, чревоугодия, страха, но от жалости освободиться не могу. Аллах дал мне мягкое сердце, и оно не хочет затвердеть…
Одноглазый в это время занимался своими делами:
Он достал из-за пазухи завернутый в сырую тряпку черенок и, взрыхлив ножом землю, воткнул его перед входом в гробницу.
— Не примется, — шепнул Ходжа Насреддин старику. — Так не сажают.
— Может быть, и примется, — ответил старик. — Я буду ухаживать за этим черенком, буду поливать его трижды в день.
Ходжа Насреддин заметил слезы, блеснувшие в уголках его серых глаз.
Все дела у гробницы были закончены. Простившись со стариком, наши путники покинули тенистую прохладу карагачевой рощи Турахона.
А Коканд встретил их горячей пылью, давкой и сутолокой у городских ворот. Начинались большие весенние базары, ворота не успевали пропускать всех прибывших.
Под городской стеной с наружной стороны гудел пестрый табор с навесами из камышовых циновок, с палатками из конских попон, с харчевнями и чайханами, в которых шла кипучая торговля. Вдоль дороги, в неглубоких ямах сидели нищие, такие же сухие и желтые, как безводная земля вокруг, — они казались порожденными этой землей, словно бы вырастали из нее или, наоборот, медленно уходили в ее глубину. А в стороне, под нестерпимый грохот барабанов, рев медных труб и резкий визг сопелок, изощрялись в своем презренном ремесле шуты, фокусники, заклинатели змей, плясуньи, канатоходцы и прочие развратители мусульманских сердец. Над этим разноязычным скопищем в мутно-белесом небе стояло раскаленное солнце — плоское, тусклое, без лучей; везде была пыль и пыль, — она летела по ветру, скрипела на зубах, лезла в нос, в глаза, в уши.
Великий охотник до всяких зрелищ, Ходжа Насреддин, не теряя времени, с лепешкой в одной руке и с тюбетейкой, полной спелых черешен, в другой, отправился в обход сначала фокусников, а потом — остальных. Он задержался перед темнолицым высохшим стариком с красной чертой на переносице — знаком племени; опустив глаза долу, индус тихонько и жалобно играл на тростниковой свирели, а перед ним раскачивались две змеи — сонные, вялые, до конца покорные звуку его тростника; не отрывая губ от свирели, он уложил обеих змей, каждую отдельно, в две глубокие корзины с плотными крышками, — и только после этого дал отдых своим онемевшим губам; на смену тонкому звуку свирели — какой страшный упругий шорох послышался из этих корзин, какое зловещее, леденящее сердце шипение, переходящее в злобный свист!.. А сверху слабо доносилась барабанная дробь: там, на страшной высоте, по тонкому канату скользил с шестом в руках маленький человек, голый до пояса, в широких красных штанах, надуваемых ветром; он приседал и выгибался, подбрасывал и ловил свой шест, исхитряясь при этом еще бить одной рукой в маленький барабан, подвешенный спереди к его поясу: внизу гудела толпа, клубилась пыль, насыщенная запахами пота, навоза и сального чада харчевен, — а он один в небесном просторе был това рищем ветру, отделенный от смерти лишь тонкой и зыбкой струной своего каната.
Неподалеку белели палатки плясуний; возле крайней заметно было движение и собирался народ; Ходжа Насреддин поспешил туда.
Два дюжих дунгана с черно-смоляными косами до пояса проворно выкатили из палатки плоский барабан шириною в мельничный жернов; потом один из них, запрокинув голову, начал дуть в длинную узкую тыкву — послышался ноющий, с дребезжанием звук, подобный полету осы. Эта старинная кашкарская пляска так и называлась "Злая оса". Зудящее нытье тыквы продолжалось долго, то усиливаясь, то замирая; вдруг полог палатки раздвинулся — и выбежала плясунья.
Она выбежала и остановилась, как будто испуганная видом толпы — прижала острые юные локти к бокам, развела в стороны маленькие ладони. Ей было лет семнадцать, не больше; на ее нежно-золотистом лице не было ни сурьмы, ни румян, ни белил она не нуждалась в этом. Разноцветные шелка — синий, желтый, красный, зеленый — окутывали ее гибкое тело, светясь и блестя в косых предвечерних лучах, сливая в одну радугу свои жаркие живые краски. Метнув на толпу из-под ресниц летучий взгляд косых и узких, влажных горячих глаз, плясунья сбросила туфли и без разбегу ловко вспрыгнула на барабан. Он сердито заворчал под ее маленькими ступнями; трубач поднял выше жерло своей тыквы и побагровел от натуги; тыква заныла, гнусаво, со звоном и криком; плясунья, изобразив испуг на лице, начала беспокойно осматриваться: где-то рядом вилась оса, грозя ужалить. Эта злая оса нападала отовсюду — с боков, снизу, сверху; плясунья отбивалась порывистыми изгибами тела и взмахами рук; все чаще, все жарче била она маленькими пятками в барабан, он отвечал тугим нарастающим рокотом, понуждая ее ко все большей горячности. Слитые воедино, они подгоняли друг друга; плясунья, увертываясь от осы, падала на колени и вскакивала опять, искала эту злую осу в складках своей одежды, — а цветные шелка все разматывались и разматывались, ниспадая на барабан, и уже только чуть прикрывали ее тонкое тело. Когда она обнажилась до пояса — злая оса залетела вдруг снизу; плясунья вскрикнула, завертелась волчком на рокочущем обезумевшем барабане, цветной вихрь поднялся вокруг нее, упал последний, розовый шелк, и она осталась перед толпой совсем обнаженная. И вдруг вся она затрепетала от головы до ног, выгнулась и запрокинула голову, тягучая судорога прошла по всему ее телу: оса все-таки ужалила ее!.. Провожаемая восхищенным и жадным ревом толпы, она убежала в палатку; и сейчас же, следом за нею, в палатку направился какой-то персидский купец — тучный, коротконогий, с черной бородой, круглым чревом и маслянистыми, сладко-сонными глазами навыкате.
Ночевали Ходжа Насреддин и его одноглазый спутник в какой-то захудалой чайхане, полной блох, а утром, с первыми лучами солнца, вошли в Коканд.
По мере их продвижения в глубину города все больше попадалось на пути стражников разных чинов. Стражники сновали по улицам, площадям и переулкам, торчали на каждому углу. Ворам действительно нечего было делать в Коканде.
"Но во сколько же обходится бедным кокан дцам вся эта начальственная орава? — думал Ходжа Насреддин. — Никакие воры, даже за сто лет непрерывного воровства, не смогли бы нанести им таких убытков!"
Миновали старинную медресе — гнездо кокандских поборников ислама, каменный мост через бурливый мелководный Сай, — и передними открылась главная площадь с ханским дворцом за высокими крепостными стенами.
Здесь начинался базар.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
В те далекие годы каждый большой город Востока имел, кроме своего имени, еще и титул. Бухара, например, именовалась пышно и громко: Бухара-иШе-риф, то есть Благородная Царственная Бухара, Самарканд носил титул Исламо доблестного Битвопобед-ного и Блистательного, а Коканд, в соответствии с его месторасположением в цветущей долине и легким беззаботным характером жителей, именовался Коканд-иЛятиф, что значит Веселый Приятный Коканд.
Было время, и не такое уже давнее, когда этот титул вполне соответствовал истине: ни один город не мог сравниться с Кокандом по обилию праздников, по веселью и легкости жизни. Но в последние годы Коканд помрачнел и притих под тяжелой десницей нового хана.
Еще справляли по старой памяти праздники, еще надрывались трубачи и усердствовали барабанщики перед чайханами, еще кривлялись на базарах шуты, увеселяя легкомысленных кокандцев, — но уже и праздники были не прежними, и веселье — не таким кипучим. Из дворца шли мрачные слухи: новый хан, пылающий необычайным рвением к исламу, отдавал все свое время благочестивым беседам и ничего больше знать не хотел. Строились медресе, новые мечети; со всех сторон в Коканд съезжались муллы, мударрисы, улемы; для прокормления этой жадной орды требовались деньги; подати возрастали. Единственным развлечением хана были скачки; с детских лет он страстно любил коней, и даже ислам не мог заглушить в его душе эту страсть. Но во всем остальном он был вполне безупречен и не подвержен суетным соблазнам. Тропинка в саду от гарема к ханской опочивальне заглохла и поросла травой, давно уж не слыша по себе в ночные часы торопливых, мелко летучих шагов, сопровождаемых вялым сопением главного евнуха и нудным шарканием его туфель, влачимых подошвами по земле. От своих вельмож хан требовал такого же целомудрия, от жителей — благочестия; Коканд был полон стражников и шпионов.
То и дело оглашались новые запреты с новыми угрозами; как раз на днях вышел фирман о прелюбодеяниях, по которому неверные жены подлежали наказанию плетьми, а мужчины — лишению своего естества под ножами лекарей; много было и других фирманов, подобных этому; каждый кокандец жил словно бы посреди сплетения тысячи нитей с подвешенными к ним колокольчиками: как ни остерегайся, все равно заденешь какую-нибудь ниточку и раздастся тихий зловещий звон, чреватый многими бедами.
Но такова уж непреодолимая сила весны, что в эти дни, о которых мы повествуем, кокандцы позабыли свои невзгоды. Под яркими лучами молодого солнца на базаре царило шумное оживление. Издавна славившиеся любовью к цветам и певчим птицам, кокандцы не изменили обычаю: у каждого был воткнут под тюбетейку близ уха либо тюльпан, либо жасмин, либо другой весенний цветок. В чайханах на разные голоса заливались крылатые пленницы, и часто какой-нибудь досужий кокандец, бросив чайханщику монету, открывал клетку и под одобрительный гул собравшихся выпускал певунью на волю. Движение арб, всадников и пешеходов останавливалось: все, откинув голову, следили в сияющем небе ее свободный, полный восторга полет.
— Дедушка Турахон ждет наших добрых дел, — сказал Ходжа Насреддин одноглазому. — Начнем, пожалуй, с птичек. Вот тебе деньги. Но помни: сам ты не должен добывать у здешних ротозеев ни одной таньга, хотя бы их кошельки смотрели на тебя умиленными глазами.
— Слушаю и повинуюсь.
Одноглазый подошел к ближайшей чайхане и купил сразу всех птиц. Одна за другой, вспыхивая на солнце крылышками, они поднимались в небо.
Собралась толпа, запрудила дорогу. Слышались громкие похвалы щедрости одноглазого.
Он открывал клетку, вынимал птичку, держал несколько мгновений в руке и, насладившись ее живым теплом, пугливым трепетом маленького сердца, — подбрасывал вверх. "Лети с миром!" — говорил он ей вслед. "Лечу! Спасибо тебе, добрый человек, я замолвлю за тебя словечко дедушке Турахону! " — отвечала она на своем птичьем языке и скрывалась. Одноглазый заливался тихим счастливым смехом:
— Удивительно, как я не додумался до этого раньше. Ведь у меня бывали большие деньги, я мог выпускать их тысячи. Я просто не знал, что эта детская забава может быть столь радостной для души.
— Ты многого не знал, да и сейчас еще не знаешь, — ответил Ходжа Насреддин, думая про себя: "Я не ошибся в этом человеке — он сохранил в своем сердце живой родник".
— Разойдись! Не толпись! — послышались грозные окрики, сопровождаемые барабанным боем; толпа шарахнулась, рассеялась — и Ходжа Насреддин увидел перед собою какого-то высокопоставленного вельможу верхом на рыжем текинском жеребце. Вельможу со всех сторон окружали стражники — усатые, свирепые, с толстыми красными мордами, пылавшими великим хватательным рвением, с копьями, саблями, секирами и прочими устрашительными орудиями. Грудь вельможи сияла множеством больших и малых медалей, на выхоленном лице с черными закрученными усами отражалось надменное высокомерие. Жеребец, придерживаемый с обеих сторон под уздцы, играл и приплясывал, косил огненно-лиловым глазом, выгибал шею и грыз удила; чепрак на его спине сиял золотом.
— Откуда вы, презренные оборванцы? — брезгливо оттопырив нижнюю губу и морщась, вопросил вельможа.
О, если бы знал он, кто стоит сейчас перед ним в этом ветхом халате, в залатанных сапогах и засаленной тюбетейке!
— Мы — сельские жители, приехавшие в Коканд на базар, — смиренно ответил Ходжа Насреддин, изобразив на лице раболепие. — Мы не содеяли ничего плохого, только выпустили несколько птичек во славу нашего великого хана и в знак почтения к тебе, о сиятельный светоч могущества.
— Разве нет других способов выразить преданность хану и почтение мне, как только выпуская на волю каких-то глупых птиц и собирая вокруг толпу? — гневно вопросил вельможа, причем слова: "выпуская на волю", — он произнес искривив губы, с брезгливым отвращением к их смыслу. — Давно пора запретить все эти "выпускания на волю", — он опять брезгливо искривил губы, — все эти дурацкие обычаи, позорящие мой город! У вас, как видно, завелись лишние деньги, и вместо того чтобы с благоговением внести их в казну, — вот истинный способ выразить преданность! — вы разбрасываете их по базару. Обыскать! — приказал он стражникам.
Те схватили Ходжу Насреддина и одноглазого, сорвали с них пояса, халаты, рубашки.
Торжествуя, показали своему повелителю кошелек, набитый серебром и медью. Вельможа усмехнулся, довольный своей проницательностью.
— Так я и знал! Спрячь! — приказал он старшему стражнику. — Потом вручишь мне для передачи в казну.
Стражник опустил кошелек в бездонный карман своих красных широких штанов, и грозное шествие, под раскатистую барабанную дробь, двинулось дальше: впереди — вельможа на коне, за ним — стражники в красных штанах и сапогах с отворотами, сзади всех — барабанщик в таких же красных штанах, но босиком, так как ему, по чину, казенной обуви не полагалось. И всюду, где они проходили, затихал веселый базарный шум, пустели чайханы и умолкали птицы, испуганные барабаном; жизнь останавливалась, замирала под стеклянным напряженным взглядом вельможи, — оставались только одни его фирманы с угрозами и запретами. Но стоило ему пройти, и жизнь за его спиной снова начинала играть всеми своими красками, звучать всеми звуками, — неуемная, вечно юная, не желающая признавать никаких запретов и смеющаяся над ними. Он проходил сквозь жизнь как некое враждебное ей чужеродное тело; он мог на время нарушить ее течение, но был бессилен подчинить ее себе и закрепиться в ней; каждым весенним цветком, каждым звуком Великая Живая Жизнь отвергала его!
Глядя вслед удалявшимся. Ходжа Насреддин сказал:
— Начальство земное разделяется на три вида:
Младшее, среднее и старшее — по степени причиняемого им вреда. Мы остались без единого гроша в кармане, — это еще хорошо: могли остаться и без голов — начальник был старший…
— У меня руки так и чесались выудить наш кошелек из кармана у стражника, — признался одноглазый. — Но я не имел твоего дозволения.
— Надо же хоть немного и самому соображать! — с досадой отозвался Ходжа Насреддин. — Вернуть законному владельцу его кошелек — зачем здесь какое-то особое дозволение?
— Вот он! — С этими словами одноглазый вытащил из-за пазухи кошелек. — Там! у него в кармане были еще два браслета — золотые, судя по весу, но их я не тронул.
Возвращение кошелька было отпраздновано пышным пиром в ближайшей харчевне. Харчевник сбился с ног, подавая щедрым гостям то одни, то другие кушанья, приправленные афганскими горячительными снадобьями, раскалявшими язык и небо. Из харчевни перешли они в чайхану, из чайханы — к продавцу медового снега и закончили пиршество у лотка с халвой.
Затем они направились в обход базара. А ко-кандский базар в те годы был таков, что обойти его сразу весь не взялся бы и самый быстроногий скороход. Один только шелковый ряд тянулся на два полета стрелы, немногим уступали ему гончарный, обувной, оружейный, халатный и другие ряды; что же касается конской ярмарки и скотной площади, то они были необозримы. На всем этом пространстве из конца в конец клубилась, кипела, теснилась толпа; Ходжа Насреддин со своим спутником то и дело протискивались боком.
Невозможно описать обилие и великолепие товаров, раскинутых на прилавках, на камышовых циновках, на ковриках: все, чем мог похвалиться тогдашний Восток, — все было здесь! Кальяны от самых простых и грубых до многотысячных, стамбульской работы, отделанных золотом и самоцветами; серебряные индийские зеркала для прекрасных похитительниц наших сердец; персидские многоцветные ковры, услаждающие глаз необычайной тонкостью узора; шелка, позаимствовавшие у солнца свой блеск; бархат, мягким и глубоким переливам которого могло бы позавидовать вечернее небо; подносы, браслеты, серьги, седла, ножи…
Сапоги, халаты, тюбетейки, пояса, кувшины, амбра, мускус, розовое масло… Но здесь мы останавливаем разбег нашего пера, ибо для перечисления всех богатств кокандского базара нам понадобились бы две или даже три большие книги!
Базарный день, полный пестрых красок, звуков и запахов, пролетел быстро. Солнце садилесь, края высоких облаков расплавились, горели розовым блеском. Пришли часы отдыха: люди расходились по домам, приезжие располагались в чайханах. Но барабаны, возвещающие конец базара, еще не ударили, — многие лавки продолжали торговлю.
В их числе и лавка одного менялы, по имени Ра-химбай, известного кокандского богача. Тучный, с двойным подбородком, от дувшимися щеками, жирным загривком, выпиравшим из-под халата, со множеством колец на пухлых коротких пальцах, он, полуопустив мясистые веки, сидел за своим прилавком, на котором ровными столбиками были разложены золотые, серебряные и медные деньги. Здесь были индийские рупии, китайские четырехугольные ченги, татарские алтыны, попавшие сюда из диких степей Золотой Орды, персидские туманы с изображением рыкающего льва, арабские динары и множество других монет, ходивших в те времена на Востоке; были здесь и монеты из далеких языческих земель: гинеи, дублоны, фартинги, носящие на себе греховные изображения франкских королей — в доспехах, с обнаженными мечами и нечестивым знаком креста на груди.
Ходжа Насреддин и одноглазый вор поравнялись с лавкой менялы как раз в то время, когда он заканчивал подсчет дневных барышей. С видом скорбного глубокомыслия, оттопырив пухлые губы, ярко красневшие в его черной бороде, он собирал свои деньги с прилавка; монеты выскальзывали из его толстых пальцев, как золотые и серебряные рыбки, и с тихим усладительным плеском падали в сумку, а презренная медь, которую сгребал он не считая, сыпалась с глухим тусклым стуком, подобно битому камню.
Ходжа Насреддин покосился на своего спутника, ожидая увидеть в его зрячем глазе желтый пронзительный свет. И — не увидел. Вор спокойно взирал на золото, его лицо отражало совсем другие мысли.
— Сегодня перед утром мне снилось, что мой черенок принялся и выбросил бутоны, — сказал он. — Верить этому сну или нет? Неужели Турахон не простит меня, неужели через год опять возобновится моя болезнь и опять я вынужден буду прибегнуть к целительному действию?
Здесь мимоходом мы поясним, что проницательный Ходжа Насреддин уже успел изучить своего спутника и понять природу его болезни, проистекавшей от навязчивой мысли, которую одноглазый сам себе внушил. В сочинениях многомудрого Авиценны, отца врачевания, говорится, что всякое нарушение телесного здоровья сейчас же отзывается на состоянии духовного существа, и — наоборот; Ходжа Насреддин пил из родников Авиценны и, применив его наставления к одноглазому вору, сумел сделать правильный вывод.
— Сон вещий, — ответил он, стараясь придать своему голосу благожелательную уверенность, в точном соответствии" с назиданиями Авиценны. — Сон вещий, запомни его. Имею основания полагать, что на этот раз Турахон будет к тебе милостивее, и ты получишь прощение.
Их разговор был прерван появлением какой-то женщины вдовы, как это явствовало из синей оторочки на рукавах ее халата. Оторочка была новая, а халат сильно поношенный, — отсюда Ходжа Насреддин заключил, что после недавней смерти мужа у вдовы не осталось денег даже не покупку траурного одеяния.
— О добродетельный и великодушный купец, я пришла к тебе с мольбой о спасении моих детей, — обратилась она к меняле.
— Проходи, я не подаю милостыни, — буркнул тот, не поднимая глаз, прилипших к деньгам.
— Я прошу не милостыни, а помощи, которая будет не безвыгодная и для тебя. Меняла удостоил поднять взор.
— После кончины мужа у меня остались сохранившиеся от былого благополучия драгоценности, последнее мое достояние, которое берегла я на черный день. — Женщина достала из-под халата кожаный мешочек. — Этот черный день пришел: трое моих детей — все больны. — В ее голосе зазвенели слезы. — Я предлагала драгоценности нескольким купцам — никто не хочет их покупать без предварительного осмотра начальником городской стражи, как приказывает последний фирман. Но ты ведь знаешь, почтенный купец, что после осмотра у меня не будет ни денег, ни драгоценностей: начальник стражи обязательно признает их крадеными и заберет в казну.
— Хм!.. — усмехнулся меняла, почесывая^пальцем в бороде. — В казну или, может быть, не в казну, но только заберет обязательно. С другой же стороны, покупка у неизвестного случайного лица без осмотра начальника стражи весьма опасна: фирман за это обещает сто палок и тюрьму. Но из сочувствия к твоему горю… Покажи, что там у тебя?
Она протянула ему свой мешочек. Он развязал его, вытряхнул на прилавок золотой тяжелый браслет, серьги с крупными изумрудами, рубиновые бусы, золотую цепочку, что, по старинному обычаю, муж дарил жене в знак неразрывности брачного союза, и еще несколько мелких золотых вещей.
— Что же ты хочешь за это?
— Две тысячи таньга, — робко сказала женщина. Одноглазый толкнул Ходжу Насреддина локтем:
— Она просит ровно треть настоящей цены. Это индийские рубины, я вижу отсюда.
Меняла пренебрежительно поджал пухлые губы:
— Золото с примесью, а камни самые дешевые, из Кашгара.
— Он врет! — прошептал одноглазый.
— Только из сожаления к тебе, женщина, — продолжал меняла, — я дам за это за все… ну — тысячу таньга.
Лицо одноглазого передернулось, в желтом оке вспыхнуло негодование; он ринулся было вперед, готовый вмешаться. Ходжа Насреддин остановил его.
Вдова попробовала спорить:
— Муж говорил, что за одни только рубины заплатил больше тысячи.
— Не знаю, что он там тебе говорил, но драгоценности могут быть и крадеными, помни об этом. Хорошо, двести таньга я набавлю. Тысяча двести, и больше ни гроша!
Что оставалось делать бедной вдове? Она согласилась.
Меняла, небрежно сунув драгоценности в сумку, протянул женщине горсть денег.
— Разбойник! — прошептал одноглазый, дрожа. — Я сам — вор, и всю жизнь провел с ворами, но подобных кровопийц не встречал!
Но это было еще не все; пересчитав деньги, женщина воскликнула:
— Ты ошибся, почтенный купец: здесь всего шестьсот пятьдесят!
— Убирайся! — завопил меняла, весь наливаясь кровяной краской. — Убирайся, или я сейчас же сдам тебя с твоим краденым золотом страже!
— Помогите! Он ограбил меня! Помогите, люди добрые! — кричала женщина, заливаясь слезами.
Возмущение одноглазого перешло все границы; на этот раз Ходже Насреддину вряд ли удалось бы его удержать, — но за углом вдруг ударил барабан.
Вблизи лавки показался вельможа со своими стражниками. Закончив обход, шествие направилось в дом службы.
Женщина замолчала, попятилась.
Купец, сложив руки под животом, низко поклонился вельможе.
Тот с высоты своего жеребца ответил небрежным кивком:
— Приветствую почтеннейшего Рахимбая, украшающего собою торговое сословие нашего города! Мне послышался крик возле вашей лавки.
— Да вот — она! — Меняла указал на женщину. — Проявляет безнравственную распущенность, дерзко нарушает порядок, требует денег, толкует о каких-то драгоценностях…
— О драгоценностях? — оживился вельможа, и в его выпуклых стеклянных глазах мелькнул такой блеск, рядом с которым желтый глаз вора мог бы почесться невинным и кротким, принадлежащим младенцу. — А ну-ка, подведите ее ко мне, эту женщину!
Вдовы уже не было: спасая последние деньги, она поспешила скрыться в переулок.
— Вот пример: чем больше утеснении простому народу, тем вольготнее всяческим проходимцам, — сказал Ходжа Насреддин. — Искореняли воровство — развели грабеж среди бела дня, прикрытый личиной торговли. Беги вдогонку за этой вдовой, узнай, где она живет.
Одноглазый исчез; в число его особенностей входило умение исчезать с глаз и возникать перед глазами неуловимо, словно растворяясь в окружающем воздухе и вновь сгущаясь из него же.
Дабы не вводить во искушение стражников. Ходжа Насреддин укрылся за кучу камней, приготовленных для облицовки большого арыка, протекавшего здесь. Отсюда ему было видно и слышно все, что делалось в лавке.
Вельможа милостиво принял приглашение купца выпить чаю. Между ними завязалась дружеская беседа о предстоящих скачках в присутствии самого хана.
— Я не боюсь никаких соперников, кроме вас, почтенный Рахимбай, — говорил вельможа, покручивая и поглаживая усы. — Я слышал о ваших двух жеребцах, доставленных из Аравии для этих скачек. Слышал, но видеть — не видел, ибо вы скрываете их от посторонних глаз более ревниво, чем даже свою супругу. Ходит слух, что они обошлись вам в сорок тысяч таньга, считая доставку морем; даже первая награда не окупит ваших расходов!
— В пятьдесят две тысячи, в пятьдесят две, — самодовольно сказал купец. — Но я не считаю расходов, когда речь идет об услаждении взоров нашего великого хана.
— Это похвально, я доложу хану о вашем усердии. Но не гневайтесь, если мои текинцы лишат вас первой награды. Об арабских конях, разумеется, ничего плохого сказать нельзя, однако лучшими в мире считаю все же текинских.
Вельможа пустился в пространные рассуждения о достоинствах различных пород коней, купец слушал и загадочно ухмылялся, перебирая пальцами по толстому животу.
Воздух наполнился благоуханиями. Пришла жена менялы — высокая, стройная, под легким покрывалом, сквозь которое угадывались румяна и белила на ее щеках, краска на ресницах, сурьма на бровях и китайская мастика не губах.
Вельможа встал, увидев ее:
— Приветствую почтеннейшую и прекраснейшую Арзи-биби, жену моего лучшего друга.
Она ответила поклоном, улыбкой. Меняла не мог удержаться, чтобы не похвастать перед вельможей своим богатством и своею щедростью: он вытащил из сумки драгоценности и тут же подарил жене, соврав при этом, что час назад заплатил за них в золотом ряду восемь тысяч таньга. Жена в самых изысканных выражениях поблагодарила за подарок; ее слова были обращены к мужу, но взгляды — к вельможе. Утопающий в самодовольстве купец ничего не заметил и все твердил о восьми тысячах таньга, заплаченных за драгоценности, о пятидесяти двух тысячах — за арабских жеребцов и еще о каких-то других тысячах. Вельможа слушал, покручивая свои черные неотразимые усы, скрывая за ними снисходительную, с оттенком презрения, усмешку, — ту самую, что многие из кокандцев жаждали носить на своем лице, но с чужого — срывали кинжалом, а чаще — доносами.
— С этими драгоценностями вы будете еще пленительнее, о прекрасная Арзи-биби, — сказала вельможа. — Как жаль, что наслаждаться созерцанием вашего ангельского лица в обрамлении этих драгоценностей дано только одному вашему супругу.
— Я полагаю, не будет особенным грехом, если ты, Арзи-биби, наденешь серьги, ожерелье и откроешься на минутку перед сиятельным Камильбеком, моим лучшим другом, — с готовностью подхватил купец (вот куда завело его самодовольство и глупое тщеславие!).
Она согласилась, не споря (еще бы!), — надела ожерелье, подняла покрывало.
Вельможа откинулся, застонал и в изнеможении прикрыл ладонью глаза, как бы ослепленный ее красотой.
Купец от самодовольства надулся, пыхтел, сопел и слегка покряхтывал.
Ходжа Насреддин за камнями, видя все это, только покачивал головой, мысленно восклицая: "Жирный хорек, чему ты радуешься? Ты выписываешь жеребцов из Аравии, а твоя жена находит их гораздо ближе!"
Вернулся вор, — возник из воздуха перед Ходжой Насреддином:
— Вдова живет неподалеку. У нее действительно трое детей, и все больны. Шестисот пятидесяти таньга ей не хватит даже на уплату долгов. Завтра она будет опять без гроша по милости этого презренного кровопийцы!
— Запомни его лавку, запомни дом вдовы, это все скоро пригодится нам, — сказал Ходжа Насреддин. — А теперь — пошли!
Они удалились, оставив вельможу, хвастливого менялу и его жену, со всеми их тысячами, драгоценностями, арабскими конями и постыдными тайнами. Чайхана, где они остановились, была на другом конце базара, они шли долго, минуя опустевшие ряды, пересекая затихшие площади. Пламенеющий закат слепил, вечерний свет широко и тихо лился на землю, и в этом золотом сиянии — минареты, хмурые громады мечетей как бы утрачивали свою земную тяжесть, казались прозрачными, зыбкими, словно готовые подняться в небо и расплавиться в его чистом спокойном огне.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Горное озеро!.. Ходжа Насреддин расспрашивал о нем всех подряд на базаре — земледельцев, бродячих ремесленников, шутов и фокусников. Тщетно, — никто ничего не слышал о таком озере. "Куда же оно запропастилось? — думал Ходжа Насреддин. — Может быть, старик владел им еще в одном из прежних своих воплощений, где-нибудь на Юпитере или Сатурне, а теперь от старости все перепутал и посылает меня искать это озеро на Земле!"
Второе дело, касающееся умилостивления Турахона, тоже немало заботило его. "До праздника осталась всего неделя, — размышлял он. — Нужны деньги, не менее шести тысяч, — где их взять?"
Пришлось обратиться за советом к одноглазому вору, — не открывая, разумеется, ему цели, для которой были нужны эти деньги.
— В прежние годы я без особого труда достал бы в Коканде шесть тысяч, — ответил вор. — Но теперь кокандцы все обнищали, у кого найдешь такой увесистый кошелек? Разве только у менялы.
— Ты опять в плену своих греховных мыслей, — с упреком сказал Ходжа Насреддин. — Почему обязательно — украсть, разве нет других способов?
— Выиграть в кости?
— Можно и проиграть. Мы должны избрать какую-нибудь другую беспроигрышную игру.
В голове Ходжи Насреддина мелькнула догадка, пока еще смутная, но таящая в себе плодотворные семена.
— Игру втроем: ты, я и этот жирный многогрешный меняла. Но как заманить его в нашу игру?
— Жирный меняла, обиратель вдов и сирот! — воскликнул одноглазый. — Заманить его в игру? Да легче заманить этот столб или вон того верблюда!.
— А было бы очень хорошо получить деньги именно от него, — продолжал Ходжа Насреддин, увлеченный своей догадкой. — Добровольно, разумеется, — вполне добровольно! Это было бы весьма полезным и самому меняле для перехода в иное бытие по окончании земного пути.
— Получить от этого кровопийцы добровольно шесть тысяч таньга! — захохотал одноглазый. — Да его земной путь окончится на первой же сотне! Посмотри, как он держится за свою сумку, — не вырвать!
Разговор происходил в чайхане, в поздний час, на рубеже полуночи. Город спал, базарные огни погасли, горели только смоляные костры на сторожевых башнях. Молодой месяц одиноко и печально склонялся над минаретами, серебря льдистым светом их изразцовые шапки. Было прохладно, тихо; днем в городе уже царило лето — зной, пыль, духота, но крылатые ночи с их мглистым сиянием, с таинственной свежестью звездного ветра еще принадлежали весне. Одноглазый вор забрался под одеяло и захрапел, а Ходжа Насреддин лежал с открытыми глазами, весь во власти голубого тумана, спустившегося на землю с неведомых высот и полного неясных видений иного, далекого мира.
Гулкие барабаны, возвестившие полночь, вернули Ходжу Насреддина к земным делам — к толстому купцу и его кожаной сумке с деньгами. Усилием воли он стряхнул сладкое оцепенение бездумья. "Ищи, мой разум, ищи! Меняла должен дать шесть тысяч таньга, и он даст, и вполне добровольно, — так мною задумано, так будет исполнено!"
А жирный меняла в это время, ничего не подозревая, не испытывая никаких тревог, мирно посвистывал носом и причмокивал губами возле своей прелестной супруги. Она же не спала и, с отвращением глядя на его вздутое чрево, мягко колыхавшееся под шелковым одеялом, вспоминала жгучий взор и неотразимые усы вельможи. В спальне было душно и чадно от наглухо запертых ставен, от светильника, осыпавшего на поднос жирные хлопья сажи. "О прекрасный Камильбек! — думала красавица. — Сколь сладостны для меня ваши объятия и сколь мерзостны бессильные прикосновения этого толстого дурака!.." С такими грешными мыслями она и уснула, имея перед очами все то же неотступное видение прекрасных черных усов, уверенная, что их вельможный обладатель отвечает ей в своих ночных мечтаниях полной взаимностью.
Она ошиблась, — вельможа в этот поздний час был занят совсем другими мыслями: о своем возвышении, о новых наградах, о низвержении соперников.
Он стоял в дворцовой опочивальне перед постелью повелителя и подобострастно докладывал ему события минувшего дня. Таков был заведенный ханом порядок; могут подумать, что повелителю не хватало дневного времени, — вовсе не так: он просто боялся оставаться по ночам один, так как был издавна подвержен приступам внезапного удушья. Эта болезнь мучила его жестоко и не отступала, несмотря на дружные уверения дворцовых лекарей, что она с каждым днем слабеет и скоро исчезнет совсем. Лекари не лгали хану, они только не договаривали, что исчезнет она вместе с ним…
Лежа спиной высоко на подушках, откинув тяжелое одеяло, хан трудно, с хрипом и свистом, дышал тощей грудью под шелковой тонкой рубахой. Окна опочивальни были открыты, курильницы не дымили, но ему все-таки не хватало воздуха.
— После закрытия базара, — докладывал вельможа, — убедившись, что в городе тихо, я отправился на скаковое поле, дабы самолично проверить его благоустройство к предстоящим скачкам…
— Ты осматривал самолично и в прошлом году, — прервал хан. — И все-таки один жеребец подвернул ногу. Смотри, если окажется и на этот раз какая-нибудь яма!..
— На этот раз я готов отвечать головой, — с поклоном ответил вельможа. — Надеюсь, что мои текинцы смогут достойно усладить взоры блистательного владыки.
— У твоих текинцев, я слышал, появились соперники. Один купец, не помню его имени, выписал коней из Аравии, заплатив за них, говорят, свыше пятидесяти тысяч. Ты видел этих коней?
— Видел, о повелитель, — соврал, не моргнув глазом, вельможа. — Кони бесспорно хороши, но до моих скакунов им далеко. Могу еще добавить, что купец сильно прихвастнул в цене; за этих арабов, как мне через моих шпионов достоверно известно, он заплатил немногим больше двадцати тысяч.
— Двадцати тысяч? Какие же это кони, за двадцать тысяч пара? Не с клячами же думает он появиться на скаковом поле перед нашими взорами!
— Купец — низкого происхождения, откуда ему знать правила высшей благопристойности, — вскользь обронил вельможа.
Очернив таким образом толстого менялу — своего соперника по скаковому полю, вельможа перешел к очернению других соперников — по дворцу. Досталось казначею, устроившему недавно с подозрительным расточительством пир для восьмидесяти гостей, досталось податному визирю, досталось, мимоходом, и верховному евнуху за чрезмерную приверженность к ла-годийскому гашишу.
Затем вельможа помедлил, готовясь к удару по главному своему врагу. Этот удар он замыслил давно и выращивал долго, как заботливый садовник выращивает в теплице драгоценный плод. Врагом вельможи был военачальник Ядгорбек, по прозванию Неустрашимый, водитель знаменитой кокандской конницы — доблестный воин, весь в шрамах от вражеских сабель и увенчанный славою многих побед. Раболепная, трусливая низость всегда ненавидит ясное благородство высоких и смелых душ; вельможа ненавидел Ядгорбека за прямоту в речах, особенно же — за неподкупное почтение, переходящее в любовь, простого народа.
Хмурый, грузный, уже постаревший, с обвисшими сивыми усами, в простой чалме с одним-единственным золотым пером знаком своей воинской власти, в шелковом потертом халате, лоснящемся на локтях, обутый в сапоги с помятыми от стремян носками и задниками, порыжевшими от постоянного соприкосновения с шерстью коня, сопровождаемый одним только телохранителем — дряхлым полуслепым стариком, бессменным дядькой с юношеских лет, — Ядгорбек, сутулясь в седле, медленно проезжал по базару на своем старом и тоже посеченном саблями аргамаке, и толпа затихала, расступалась, провожая воина почтительным шепотом, а его бывшие сотники, такие же седые, как и он, с честными боевыми шрамами на лицах, кричали из чайхан: "Привет тебе. Неустрашимый! Когда же в поход? Не забудь о нас, мы еще сможем рубиться!.." Появляясь раз в год во дворце, старый воин был всегда молчалив и ни слова не говорил о своих подвигах, но самые рубцы на его изуродованном лице гудели и рокотали, как бы храня в себе от прошлых времен прерывистый рев медных боевых труб, свист обнаженных сабель, злобное, с привизгом ржание коней, звон щитов и слитный бой барабанов, наполняющих яростью.
Легко ли было все это переживать вельможе, никогда не побывавшему ни в одной схватке, никогда не видевшему над своей головой блеска чужого клинка? Прекрасный Камильбек благоразумно всю жизнь выходил на битву не раньте чем его противник был крепко-накрепко связан веревками и положен на землю ничком, лицом вниз, и придавлен сверху двумя стражниками — одним, сидящим на шее, и вторым, сидящим на ногах.
— Ну, что еще? — спросил повелитель, гулко зевнув; было поздно, в набухших веках он чувствовал тяжесть, но благодетельный сон так и не шел к нему.
Вельможа изогнулся и весь затрепетал от макушки до пяток. Вот она, долгожданная минута!
— Есть у меня в мыслях некое слово горестной правды, о повелитель!
— Говори!
— Боюсь отяготить им державное сердце могущественного владыки.
— Говори!
— Речь идет о военачальнике Ядгорбеке.
— Ядгорбек? Он провинился? В чем?
Вельможа слегка задохнулся, но, мужественно преодолев волнение, звучным и ясным голосом произнес:
— Он уличен мною в прелюбодействе!
— В прелюбодействе? Ядгорбек? — вскричал хан, изумленный сверх всякой меры. — Да ты с ума сошел! Если бы в чем-нибудь другом, я бы мог еще поверить, но в этом!..
— Да, в прелюбодействе! — повторил вельможа с твердостью. — Имеются бесспорные доказательства. Овдовев шесть лет назад…
— Знаю…
— …означенный сластолюбец Ядгорбек, не пожелав законным образом и от аллаха установленным порядком жениться, вступил два года назад в прелюбодейную связь с одной женщиной, персиянкой, по имени Шарафат.
— Знаю, — прервал хан. — Так ведь эта женщина — без мужа; он пять лет как ушел со своим караваном в Индию и где-то погиб в пути.
— Да преклонит повелитель свой слух к моим дальнейшим речам. Уже после оглашения фирмана, — а с того дня прошло более двух месяцев, — Ядгорбек не прервал своей прелюбодейной связи с указанной женщиной, следовательно — виновен и подлежит установленной каре.
— Да зачем было ему прерывать с нею связь, если она свободна, повторяю тебе! — вскричал хан уже с нетерпеливой досадой в голосе. — Как можно применить в этом случае фирман, какое здесь прелюбодей-ство, что ты бормочешь!
Он был все же владыка большого ханства и поневоле заботился о возможно правильном и строгом исполнении законов, дабы своеволием начальников его царство не разрушилось.
— Можно ли применить фирман, спрашивает повелитель? — зашипел вельможа, хищно пошевеливая усами. — Ну а что, если эта женщина в действительности не свободна и продолжает состоять в браке, который не расторгнут законным порядком? Что, если ее муж не погиб, а жив?
— Жив? А где же он был эти пять лет?
— Он жив и ныне пребывает в Индии, в Пешавере, обращенный в рабство. У меня в подземелье сидят два пешаверца, еще в позапрошлом году схваченные мною на базаре за чародейные замыслы против великого хана. В своих преступлениях они, разумеется, полностью признались на первых же двух допросах и были приговорены мною, в соответствии с законом, к заключению в подземной тюрьме. Так вот недавно, на днях, они дополнительно показали, что встречали на пешаверском базаре мужа этой женщины в жалком состоянии раба. Он трижды посылал вести к своей жене, умоляя о выкупе, но она не отозвалась, наущаемая, как я уверен, своим прелюбодейным сожителем Ядгорбеком. Вот, о повелитель, что показали на допросе пешаверцы — оба, и причем одними и теми же словами.
— У тебя на допросах все показывают одними и теми же словами, — заметил хан, сумрачно усмехнувшись. — Что подумают жители, что скажет войско, если Ядгорбек будет схвачен по такому смехотворному поводу? Здесь что-то весьма не чисто у тебя, как я вижу…
Его раздражала чрезмерная дерзость вельможи, наперед заготовившего приговор, раздражало слишком самоуверенное торчанье черных усов; к тому же еще и болезнь напоминала о себе тупой ломотой в затылке, — поэтому голос хана звучал скрипуче и у язвительно.
— Что-то весьма не чисто, говорю я. Пешаверцы схвачены полтора года назад, а показали о встречах с мужем этой женщины только сейчас. Почему же они не показывали до сих пор?
— Они упорствовали в отрицании, только теперь признались.
— Упорствовали в отрицании? — Усмешка на лице хана стала еще мрачнее. — В чаро действах, которые грозили им тюрьмой, признались, по твоим словам, на первых же двух допросах, а во встречах с мужем этой женщины, что им ровно ничем не грозило, не признавались целых полтора года? Это — в твоих-то подземельях, в твоих-то руках? Немного странно, как ты думаешь, — а?…
Вельможа понял, что неудачно выбрал время для своего дела. Хан в дурном расположении духа, он обращает жало без выбора, к тому, кто ближе; в эту ночь следовало бы вовсе не появляться во дворце, сказавшись больным и подсунув вместо себя под ханское жало кого-то другого. Но ошибка уже совершилась; такие промахи нередки с людьми, жмущимися к подножиям тронов, — кто первым ловит кусок, тому же достается и первая пощечина.
— О великое средоточие вселенной, я замечал и раньше за Ядгорбеком склонность к прелюбодействам, и если молчал об этом перед ханом, то единственно в заботе о сохранении драгоценного здоровья повелителя, которое могло потерпеть ущерб от столь огорчительной вести, — начал вельможа, изгибаясь и подвиливая задом в надежде, что еще удастся дать делу желаемый оборот.
Не тут-то было, — такая уж выдалась несчастная ночь!
— Замечал в Ядгорбеке склонность к прелюбодействам и раньше? — переспросил хан. — Где? В походах, которых ты с ним никогда не делил? И с кем? Со своей саблей, что ли, прелюбодействовал он? А я вот замечал нечто иное, замечал подобную склонность в некоторых других… у которых достаточно для этого и сил, и свободного времени, которые именно ради всяческого прелюбодейства отращивают пышные усы и носят лакированные сапоги на таких высоких каблуках, что становятся в них похожими на китаянок. Вот где следовало бы поискать прелюбодейства; я уверен, что эти поиски не затянулись бы надолго.
Земля качнулась и поплыла под ногами вельможи. Наугад говорит хан или получил от кого-то донос? Быть может, он все знает, даже имя Арзи-биби известно ему? Быть может, он просто медлит, подобно коту, уже наложившему когти на мышь? Все эти мысли, кружась и свистя, пронеслись в голове вельможи, как мгновенный аравийский вихрь, повергающий пальмы.
Теперь ему уже было не до коварных замыслов, — самому бы выскочить из своей же ловушки!
Чувствуя на лице предательскую бледность, отворачиваясь от светильников, он долго откашливался, изгоняя сипоту, застрявшую в горле.
Ему бы надлежало отступить с умом и хитростью, не обращая к хану открытой спины, — он же, от природы трусливый, кинулся в безоглядное бегство.
— Великий владыка прав, как всегда! — воскликнул он с преувеличенным жаром. — Своей несравненной мудростью повелитель сорвал пелену с моих глаз. Теперь я вижу ясно, что означенные пешаверцы злонамеренно оклеветали благородного Ядгорбека, дабы умалить славу его воинских подвигов и через то уменьшить блеск кокандского царства! Вот в чем заключалась их преступная цель; теперь остается только узнать, откуда исходило наущение, где затаилась измена? Завтра же я самолично передопрошу пешаверцев.
Хан слушал молча; усмешка на его тонких губах мерцала весьма предвещательно; какое слово таилось под нею и что принесет оно, всплыв наконец на уста9 В смятении, в страхе, стремясь отдалить это слово, вельможа говорил без умолку, со все возрастающим пылом.
— Сколь благословенна эта ноч^ — восклицал он. — Благодаря бездонной мудрости нашего владыки измена разоблачена, доброе имя очищено! Теперь моя совесть спокойна, разум возвысился, дух просветлен, — теперь я могу удалиться^
Кланяясь на каждом слове и приседая, он пятился к спасительной двери, но опочивальня была обширна, и последнего шага он сделать не успел; он уже перенес правую ступню за порог и подтягивал, в поклоне, левую, еще бы один миг, и он вышел бы за дверь, ко спасению, — но здесь-то и настигла его стрела возмездия.
— Подожди! — сказал хан. — Иди-ка сюда, поближе…
С остекленевшим, помутившимся взглядом, неотрывно прикованным к ханскому персту, слегка поманивающему к себе, вельможа молча, будто влекомый за шею незримым арканом, проделал обратный путь, от двери к ханскому ложу, причем каждый шаг на этом обратном пути доставался ему ценою жесточайшей внутренней судороги.
— Где они сейчас, твои пешаверцы? — спросил хан.
— В подземной тюрьме, о повелитель!
— Я намерен допросить их сам. Свет померк перед глазами вельможи, голова закружилась.
Но язык делал свое дело, помимо разума:
— С наступлением дня они будут доставлены во дворец.
— Не с наступлением дня, а сейчас, — сказал хан. — Мне все равно, я вижу, не уснуть, — так вот я и займусь…
— Они не подготовлены ко дворцу, — пролепетал вельможа. — Они в лохмотьях и заросли диким волосом…
— Ничего, на крайний случай разбудим цирюльника.
— От них исходит нестерпимый смрад…
— А мы поставим их в отдалении, у открытого окна. И я расспрошу во всех подробностях о муже этой женщины: как он попал в Пешавер и кто обратил его в рабство. А также о чародействах, за которые они были схвачены; помнится, ты получил тогда за проявленное усердие десять тысяч таньга, или даже пятнадцать. Они расскажут; ты, разумеется, удалишься, чтобы они свободнее себя чувствовали, а я — послушаю и разберусь. Эй, стража!
Он ударил молоточком в медный круг, подвешенный к светильнику.
Вошел начальник дворцовых караулов.
— Ты останешься пока здесь, — сказал хан, обращаясь к вельможе. — А ты возьмешь из караула четырех стражников и пойдешь с ними с тюрьму, где содержатся…
Но в этот миг удушье костяной рукой схватило его за горло, наполнив гортань и грудь как бы мелко изрубленным конским волосом. Хан покачнулся, побагровел, посинел; сухой кашель бил, тряс и трепал его тощее тело; глаза выпучились, язык вывалился. Вбежали ночные лекари с тазами, полотенцами, кувшинами; начался переполох.
Вельможа сам не помнил, как выбрался из дворца.
Если бы не внезапный приступ удушья, повергнувший хана в беспамятство, — эта ночь для вельможи была бы последней в его благоденствиях.
Только на площади, под свежим ночным ветром, он пришел в себя.
Опасность отдалилась, но еще не миновала. Оправившись, хан вспомнит о пешаверцах и потребует их к себе.
Необходимо убрать пешаверцев, убрать сейчас же, до наступления дня!
Но как?…
Вельможа недоумевал.
Вчера он мог их казнить либо тайно умертвить — и никто не сказал бы ни слова. Но сегодня эти испытанные способы не годились: к двум головам пешаверцев можно было ненароком присоединить и третью — свою.
Оставался единственный способ, никогда еще не употреблявшийся вельможей в его многотайных делах, — побег!
С этим решением вельможа направился к дому службы, где у него были верные люди, всегда готовые исполнить все без лишних расспросов и умевшие молчать об исполненном.
Чародейные пешаверцы, которые в эту ночь сделались предметом внимания самого повелителя, в действительности были самыми обычными камнетесами, работавшими издавна в паре и пришедшими в Коканд на заработки; оба уже пожилых лет, они никогда в жизни не имели никакого касательства к чародейству; все это вельможа выдумал ради своего возвышения по службе.
После полуторагодового безвыходного сидения в подземной тюрьме пешаверцам недавно пришлось на короткий срок выйти в пыточную башню для дачи новых показаний, таких же мутных, как и первые: о какой-то женщине, гдето, кем-то и когдато обращенной чародейным способом в рабство, о каком-то человеке, не пожелавшем ее выкупить, или, наоборот, о человеке в рабстве и о женщине, не пожелавшей выкупить, или о них обоих в рабстве… и еще кто-то сотворил чародейство над какимто старым военачальником, превратив его в персиянку, по имени Шара-фат, — словом, в головах у пешаверцев все это перепуталось и они вернулись в подземелье с угрюмым безразличием к дальнейшему, зная с уверенностью только одно — что уже теперь-то, после второго допроса, от плахи им не уйти!
С этой мыслью и встретили они трех тюремщиков, спустившихся к ним перед рассветом и отомкнувших запоры цепей.
Соблюдая необходимую для задуманного дела тишину, двое тюремщиков поднялись с пешаверцами наверх, а третий остался внизу надпиливать пустые цепи.
Все шло гладко и ладно, в полном соответствии с предначертаниями вельможи, но вдруг наверху возникла неожиданная задержка: пешаверцы, уверенные, что идут прямо к плахе, потребовали муллу, — твер-доверные муссулимы, они не хотели предстать аллаху неочищенными.
Уговоры были напрасны.
Тщетно тюремщики наперебой заговорщицкими полуголосами внушали им, что они идут на свободу.
Пешаверцы, конечно же, не верили и все тверже требовали муллу.
Между тем драгоценные минуты летели и близился рассвет — время, уже непригодное для задуманного.
Попытки выпихнуть пешаверцев из тюрьмы силой не увенчались успехом, так как они подняли крик, отозвавшийся гулом многих голосов внизу, в подземелье, среди прочих преступников.
А тюрьма находилась в опасной близости ко дворцу, где могли услышать.
Пришлось доложить вельможе, который сам в это время предусмотрительно находился вне тюрьмы, но все же неподалеку.
Своего верного муллы у вельможи под рукой на этот случай не оказалось, — предвидя многое, он упустил из мыслей твердость пешаверцев в исламе.
Звать же постороннего муллу не позволяла тайна.
Бормоча ругательства и проклятия, вельможа приказал одному из доверенных стражников переодеться муллой, то есть в белый халат и белую же чалму, и в таком виде идти к пешаверцам.
Новоявленный мулла, подойдя к ним с притворным благочестием на лице, хотел возгласить подобающее молитвенное обращение, но уста его, по многолетней привычке, для самого стражника неожиданно, вдруг изрыгнули сквернословие, что имело своим следствием его опознание пешаверцами.
Промах стражника чуть не погубил всего замысла.
Ужаснувшиеся пред мыслью лишиться исповедального покаяния, видя, что их обманывают в этом последнем и самом важном деле, пешаверцы подняли крик еще сильнее, чем в первый раз, — и подземелье отозвалось им глухим ревом, подобным гулу землетрясения.
Вторично доложили вельможе.
Он заскрипел зубами, он побледнел, как будто на его лице отразилась бледная полоска, уже обозначившаяся на востоке.
Минуты летели…
Рассвет надвигался.
Замысел рушился.
Тайна грозила всплыть.
Подгоняемый страхом, вельможа в отчаянии решился на крайнюю меру.
Он приказал объявить побег и поднять тревогу — трубить в трубы, бить в барабаны, звенеть щитами, размахивать факелами и кричать всем возможно громче.
Среди этого шума и переполоха связать пешаверцев, — благо их вопли будут заглушены, забить им рты тряпочными кляпами, упрятать их в шерстяные толстые мешки и на быстрых конях, в сопровождении четырех наиболее доверенных стражников, направить к южным воротам.
А погоню за беглецами направить к северным воротам.
Все это было исполнено.
Трубили трубы, гремели барабаны, пылали факелы, раздавались крики: "Держи! Лови! Хватай!.."
На белом коне, с обнаженной саблей и вздыбленными усами, в свете факелов, гарцевал перед тюрьмой вельможа, будто бы только что примчавшийся по тревоге.
— К северным воротам!
Погоня ринулась туда; впереди — вельможа на белом коне, с обнаженной саблей, подъятой над головой.
А пешаверцев, задыхавшихся в мешках, быстрые кони мчали к югу от Коканда.
Через два часа безостановочной скачки стражники остановили коней вблизи одного заброшенного кладбища, в густых зарослях камыша и терновника.
Пешаверцев вытряхнули из мешков.
Они еще дышали, хотя и слабо.
Лучи раннего солнца, свежий ветер и вода из арыка, обильно поливаемая на них кожаным походным ведром, оказали желаемое действие.
Пешаверцы очнулись, обрели способность внимать человеческой речи.
Правда, речь, обращенная к ним, состояла на девять десятых из одного только сквернословия, — тем не менее пешаверцы поняли, что действительно выпускаются на свободу, и возблагодарили аллаха за столь чудесное избавление от неминуемой гибели
Им было выдано на двоих пятьдесят таньга — половина того, что назначил вельможа для умягчения пограничного караула.
Вторую половину денег стражники разделили между собою, затем — вскочили на коней и умчались в Коканд.
Оставшись одни, пешаверцы первым делом совершили благочестивое омовение, которого так долго лишены были в подземной тюрьме.
Потом, расстелив свои халаты, опустились на колени, имея восходящее солнце от себя по левую сторону, обратив исхудавшие лица к священной Мекке.
Они молились долго, соответственно важности чуда, совершившегося для них.
Когда они окончили молитву, успокоение сошло в их сердца — в чистые бесхитростные сердца простых людей, честно зарабатывающих тяжелым трудом свой хлеб.
Они разделили полученные деньги поровну, по двадцать пять таньга, и спрятали их, предвидя возвращение к семьям, терпящим нужду без кормильцев.
Затем они побрели по дороге, радуясь солнцу, зеленой листве, птицам и беседуя о минувших злоключениях, не будучи в силах понять ни того, почему полтора года назад они были вдруг схвачены и ввергнуты в подземелье, ни того, почему этой ночью столь же внезапно выброшены из тюрьмы при таких особенных обстоятельствах.
Они только покачивали головами, дивясь неиспо-ведимости господних путей, запутанности земных судеб и непостижимости для простого ума многомудрых и многотайных предначертаний начальства.
На следующий день они, без дальнейших помех, пострадав каждый только на десять таньга из отложенных двадцати пяти, пересекли южную границу ханства и к вечеру уже работали, отесывая камни для одной вновь строящейся мечети.
Так, медленно, от одной попутной работы к другой, они продвигались к родному селу и благополучно достигли его, вкусив радость встречи со своими семьями.
Их дальнейшая судьба нам неизвестна, однако мы верим, что они уж больше не попадали на помол в ту достославную мельницу, где воды своекорыстий вертят колеса хитростей, где валы честолюбии приводят в движение зубчатки доносов и жернова зависти размалывают зерна лжи…
Ночная буря вокруг пешаверцев не задела своим крылом чайханы, где ночевали Ходжа Насреддин и одноглазый вор; сюда от тюрьмы долетел только слабый отзвук барабанов и труб, возвестивших побег, да глухо и слитно передался по земле конский топот в направлении к северным воротам. Потом опять все затихло до утра.
Месяц скрылся, голубая дымка исчезла, сменившись предрассветной серой мглой, а Ходжа Насреддин все еще не смыкал глаз для сна, прикованный мыслями к жирному купцу и его сумке с деньгами.
Уже сотни хитроумных способов выманить у менялы шесть тысяч таньга были придуманы и отвергнуты. "Обольстить его призраком ложной выгоды? — размышлял Ходжа Насреддин. — Или напугать?…"
И вдруг с головы до пят его прожгло мгновенным пронзительным озарением. Вот он — верный способ открыть денежную сумку менялы! Все сразу осветилось, как под белым блеском летучей молнии; сомнения рассеялись.
И такова была жгучая сила этого озарения, что она передалась от Ходжи Насреддина на другой конец города — в дом купца. Меняла беспокойно заворочался под одеялом, засопел, зачмокал толстыми губами, схватился за левую сторону живота, где всегда носил свою сумку.
— Уф! — сказал он, толкая локтем жену. — Какой нехороший сон привиделся мне сейчас: будто бы я, оступившись, упал с лестницы в кормушку с овсом и меня вместе с моей денежной сумкой сожрал какой-то серый ишак. А потом ишак изверг меня в своем навозе, но уже без сумки — она осталась у него в животе.
— Молчи, не мешай мне спать, — недовольным голосом отозвалась жена, думая про себя: "Прекрасному Камильбеку, конечно, никогда не снятся такие дурацкие, такие неприличные сны!" Мечтательно улыбаясь, она устремила взгляд на розовевшее в лучах восхода окно, за которым начиналось утро, полное для каждого своих забот — и для нее, и для менялы, и для прекрасного Камильбека.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Но самые большие хлопоты и заботы принесло это утро Ходже Насреддину.
Оставив одноглазого вора в чайхане, он с первыми лучами солнца отправился в дальний конец базара, где торговали старьем. Там по дешевке он купил ветхий потертый коврик, пустую тыкву для воды, старую китайскую книгу, посеребренное зеркальце, связку бус и еще кое-какую мелочь. Затем по берегу Сая он вышел к мосту Отрубленных Голов.
Этот мост назывался так страшно потому, что здесь в прежние времена обычно выставлялись на высоких шестах головы казненных; теперь, по ханскому повелению, шесты с головами водружались на главной площади, чтобы их видно было из дворца, а мост, сохранив от минувшего только зловещий титул, перешел во владение гадальщиков и предсказателей.
Их всегда сидело здесь не меньше полусотни — этих мудрых провидцев сокрытых предначертаний судьбы. Наиболее почитаемые и прославленные занимали ниши в каменной ограде моста, другие, еще не достигшие таких высот, расстилали свои коврики возле ниш, третьи, самые младшие, размещались где попало. Перед каждым гадальщиком лежали на коврике различные магические предметы: бобы, крысиные кости, тыквы, наполненные водой из вещего источника Гюль-Кюнар, черепаховые панцири, семена тибетских трав и многое другое, необходимое для проникновения в темные глубины будущего. У некоторых, из числа наиболее ученых, были и книги — толстые, растрепанные, с пожелтевшими от времени страницами, с таинственными знаками, вселявшими в умы непосвященных страх и трепет. А самый главный гадальщик имел даже, по особому дозволению начальства, человеческий череп — предмет жгучей зависти всех остальных.
Гадальщики строго делились по отдельным видам гадания: одни занимались только свадьбами и разводами, другие — предстоящими кончинами и проистекающими из них наследствами, третьи — любовными делами, областью четвертых была торговля, пятые избрали для себя путешествия, шестые — болезни… И никто из них не мог пожаловаться на скудость доходов: с утра до вечера на мосту Отрубленных Голов толпился народ, к закату солнца кошельки гадальщиков полновесно разбухали от меди и мелкого серебра.
Ходжа Насреддин подошел к самой большой нише, которую занимал главный гадальщик — хилый старик, до того высохший и костлявый, что халат торчал на нем какими-то углами, а череп, лежавший на коврике перед ним, казался снятым с его собственных плеч. Смиренно поклонившись. Ходжа Насреддин попросил указать место, где позволено будет ему расстелить коврик.
— А каким же гаданием думаешь ты заняться? — сварливо осведомился старик.
Гадальщики повысунулись из ниш, прислушиваясь к разговору. Их взгляды были недоброжелательны.
— Еще один! — сказал толстый гадальщик слева.
— Нас и так собралось на мосту слишком много, — добавил второй, похожий на суслика, с вытянутым вперед лицом, с длинными зубами, торчавшими из-под верхней губы, прихватывая нижнюю.
— Вчера я не заработал и десяти таньга, — пожаловался третий.
— И лезут еще новые! Откуда только они берутся! — добавил четвертый.
Иного приема Ходжа Насреддин и не ждал от гадальщиков, поэтому заранее приготовил умягчитель-ные слова:
— О мудрые провидцы человеческих судеб, вам нечего бояться моего соперничества. Мое гадание совсем особого рода и не касается ни торговли, ни любовных дел, ни похорон. Я гадаю только на кражи и на розыск похищенного, но зато в своем деле равных себе, скажу не хвалясь, еще не встречал!
— На кражи? — переспросил главный гадальщик, и вдруг все его кости под халатом заскрипели, затряслись от мелкого смеха. — На кражи, говоришь ты, и на розыск похищенного? Тогда садись в любом месте — все равно ты не заработаешь ни гроша!
— Ни одного гроша! — подхватили остальные, вторя костяному смеху своего предводителя.
— С твоим гаданием в нашем городе нечего делать, — закончил старик. — В Коканде воровство изведено с корнем; для тебя лучше было бы уехать куда-нибудь — в Герат или Хорезм.
— Уехать… — опечалился Ходжа Насреддин. — Где возьму я денег на отъезд, е9ли у меня в кармане всего лишь восемь таньга.
Вздыхая, с угнетенным видом, он отошел в сторону и расстелил на каменных плитах коврик.
А базар вокруг уже шумел полным голосом: лавки открылись, ряды загудели, площади всколыхнулись. Все больше людей стекалось на мост — купцов, ремесленников, бездетных жен, богатых вдов, жаждущих обрести себе новых мужей, отвергнутых влюбленных и различных молодых бездельников, томящихся в ожидании наследства.
И закипела дружная работа! Будущее, всегда одетое для нас в покровы непроницаемой тайны, — здесь, на мосту, представало взгляду совсем обнаженным; не было такого уголка в его самых сокровенных глубинах, куда бы не проникали пытливые взоры отважных гадальщиков. Судьба, которую мы называем могучей, неотвратимой, непреодолимой, — здесь, на мосту, имела самый жалкий вид и ежедневно подвергалась неслыханным истязаниям; справедливо будет сказать, что здесь она была не полновластной царицей, а несчастной жертвой в руках жестоких допрашивателей, во главе с костлявым стариком — обладателем черепа.
— Буду ли я счастлива в своем новом браке? — трепетно спрашивала какая-нибудь почтенных лет вдова и замирала в ожидании ответа.
— Да, будешь счастлива, если на рассвете не влетит в твое окно черный орел, — гласил ответ гадальщика. — Остерегайся также посуды, оскверненной мышами, никогда не пей и не ешь из нее.
И вдова удалялась, полная смутного страха перед черным орлом, тягостно поразившим ее воображение, и вовсе не думая о каких-то презренных мышах; между тем в нихто именно и крылась угроза ее семейному благополучию, что с готовностью растолковал бы ей гадальщик, если бы она пришла к нему с жалобами на неправильность его предсказаний.
— Один самаркандец предлагает мне восемнадцать кип шерсти. Будет ли выгодной для меня эта сделка? — спрашивал купец.
— Покупай, но следи, чтобы во время уплаты около тебя на сто локтей вокруг не было ни одного плешивца.
Купец отходил, ломая голову, как избежать ему зловредного влияния плешивцев, распознать которых под чалмами и тюбетейками было не так-то легко на базаре.
Но первое место среди гадальщиков принадлежало, бесспорно, обладателю черепа. Это был поистине великий, проникновенный мастер своего дела! Как многозначительно поджимал он бескровные губы, с каким сосредоточенным вниманием дул на сухую змеиную шкурку, разглядывал черепаховый панцирь и нюхал из тыквы, наполненной водами вещего источника Гюль-Кюнар, прежде чем коснуться главного своего сокровища — черепа. Но вот приходило время и черепу. Насупив брови, что-то невнятно бормоча, гадальщик тянул к нему руки с нависшими костлявыми пальцами — и вдруг отдергивал, словно обжегшись. Потом — снова тянул и снова отдергивал. Наконец брал череп, медленно подносил к своему уху. Перед глазами окованного ужасом доверителя возникали два черепа: один — костяной, второй — обтянутый кожей. Черепа начинали страшную беседу: костяной шептал, обтянутый кожей слушал… У кого бы хватило после этого духу расплачиваться медью? — рука сама вынимала из кошелька серебро.
Прошел день, второй, третий. Никто не обращался к Ходже Насреддину за розыском похищенного, ни разу не пришлось ему заглянуть в свою китайскую книгу и понюхать из тыквы.
По вечерам, когда он сворачивал коврик, гадальщики со всех сторон глумливо кричали:
— Сегодня он опять не заработал ни гроша!
— Сколько у тебя еще осталось от восьми таньга, — эй ты, гадальщик на кражи?
— Чем он будет ужинать сегодня, этот гадальщик, никогда и нигде не встречавший равных себе?
Ходжа Насреддин молчал, сохраняя притворно угнетенный вид.
А на четвертый день весь город потрясла и привела в смятение весть о дерзком воровстве — небывалом, неслыханном даже в стародавние, счастливые для воров времена. Из конюшни толстого менялы были ночью уведены арабские жеребцы, которых он берег и холил для предстоящих весенних скачек.
Утром весть о краже передавалась из уст в уста боязливым шепотом, в полдень о ней говорили вслух, к вечеру во всех концах базара ударили барабаны и заревели трубы глашатаев, объявлявших о награде в пятьсот таньга каждому, кто укажет след дерзких воров.
Гадальщики на мосту всполошились. Все взгляды были обращены к Ходже Насреддину:
— Заработай же скорее эти пятьсот таньга!
— Возьми их, что же ты медлишь?
— Он пренебрегает столь мелкой наградой, он ожидает награды в пять тысяч!
От этого назойливого визга у Ходжи Насреддина тяжелело дыхание, горело сердце.
Он сдерживал гнев, дожидаясь часа своего торжества.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Между тем волнение в городе росло.
Меняла от сильнейшего расстройства заболел и слег.
Вельможа, только что закончивший, с большим потрясением духа и не без ущерба для здоровья, ночные беседы с ханом о таинственном побеге пешаверцев, был этим похищением поставлен перед угрозою новых бесед, еще более тягостных. В предчувствии оных вельможа уподобился громоносящей туче (сквозь которую, однако, нет-нет да и проскальзывала, подобно мгновенному солнечному лучу, затаенная усмешка — дитя глубоко сокрытых мыслей о предстоящих скачках, где теперь его текинцы уже не встретят опасных арабских соперников).
Ночью хан вызвал вельможу к себе в опочивальню. Беседа была очень короткой, причем слова исходили только от одной стороны, в то время как другая по необходимости ограничивалась лишь поклонами, всто-порщиванием усов, закатыванием глаз, воздеванием рук к небу и прочими словозаменительными телодвижениями (без которых, воистину, сыны и дщери человеческие испытывали бы порой непреодолимые трудности в делах служебных, а наипаче — супружеских).
Вельможа вышел от хана изжелта-зеленый и потребовал к себе немедля всех старших и средних начальников. Его беседа с начальниками была еще короче, чем беседа повелителя с ним.
Старшие и средние начальники, в свою очередь, потребовали к себе младших; там весь разговор состоял из нескольких ругательных слов.
Что же касается низших, то есть простых шпионов и стражников, то к ним слова уж вовсе не опустились, а только одни зуботычины.
Давно в Коканде не было такой беспокойной ночи! На площадях, на улицах, в переулках — всюду бря-цало и звенело оружие, в холодном свете месяца поблескивали копья, щиты и сабли: стража искала воров. Костры на сторожевых башнях высоко вздымали в тихое небо языки темно-красного смоляного пламени, дымное зарево стояло над городом. Заунывно перекликались дозорные. В темных углах, под мостами, в проломах заборов, на пустырях и кладбищах таились сотни шпионов.
Старшие и средние начальники, в сопровождении младших и низших, предприняли самоличный обход всех чайхан и караван-сараев. Заходили они и в чайхану, где спал Ходжа Насреддин, подносили к его лицу пылающий факел. Он даже глаз не открыл, хотя и слышал, как потрескивает его борода, и вдыхал запах жженого волоса.
Одноглазого вора с ним рядом в эту ночь не было.
Наступившее утро не принесло городу успокоения.
Около полудня вельможа с многочисленной свитой появился на мосту Отрубленных Голов.
Он простер десницу. Из толпы конных стражников выскочили двое — на гнедом жеребце и на сером; крутя нагайкой, свесившись в седле набок, гикая и свистя, первый из них гулко промчался по мосту, обдав гадальщиков горячим ветром и запахом конского пота; второй — направил коня вниз, пересек в облаке брызг мелководный Сай, одним прыжком вымахнул на противоположный берег, исчез в боковом переулке.
Вельможа простер десницу в другую сторону — и туда, звеня щитами, саблями, копьями, толпясь и переругиваясь, устремились пешие стражники.
После этого вельможа направился к старику — главному гадальщику. Между ними началась тайная беседа.
Ходжа Насреддин со своего места не мог ничего услышать, но угадывал каждое слово.
Речь шла, конечно, о розыске пропавших коней. Старик обещал призвать на помощь все ему подвластные потусторонние силы, в том числе и сокрытые в черепе. Вельможа фыркал, топорщил усы, — он пришел не ради глупых сказок, он требовал дела!
Старику пришлось обратиться к подвластным ему земным силам. Начался допрос гадальщиков, — кому они гадали вчера и позавчера, не случилось ли им заметить в своих доверителях чего-либо подозрительного, может быть, соприкосновенного дерзкому похищению?
Все подряд отвечали, что ничего такого не заметили.
Вельможа гневался, дергал усами. Его напряженный стеклянный взгляд грозил палками, плетьми, изгнанием из города.
Гадальщики приуныли. Судьба, претерпевшая от них столько унижений, внезапно явилась перед ними в новом могучем облике, чтобы насладиться долгожданной местью; сегодня против нее были бессильны не только бобы и крысиные кости, но даже и череп! Очередь отвечать дошла до Ходжи Насреддина. Вслед за всеми он повторил, что не видел и не слышал ничего подозрительного.
Вельможа сердито фыркнул, — опять ничего! Вдруг из ниши напротив (именно так и думал, и рассчитывал Ходжа Насреддин!) послышался чей-то злобнотрусливый, с гнусавым привизгом голос:
— Но ты ведь говорил, что в гаданиях на розыск похищенного не имеешь равных себе!
Услышав слово "розыск", вельможа встрепенулся:
— Почему же ты молчал, гадальщик? — В его стеклянных глазах разгорался огонь. — Отвечай! — Гнев, давно скопившийся в нем, искал выхода. — Я размечу все ваше поганое гнездо, превращу в прах и пепел! — загремел он. — Стражи, возьмите его! Возьмите этого гадальщика, этого мошенника, и бейте плетьми до тех пор, пока он не скажет, где находятся украденные кони! Или пусть всенародно признается, что он — бесстыдный лжец! Бейте его!
Стражники сорвали с Ходжи Насреддина халат. Двое побежали под мост — мочить плети. Медлить было опасно. Ходжа Насреддин смиренно обратился к вельможе:
— Недостойный раб повергает к стопам сиятельного князя униженную мольбу выслушать его. Я действительно гадаю на розыск похищенного и могу найти пропавших коней.
— Ты можешь найти? Почему же до сих пор не нашел?!
— О сиятельный князь, мое гадание требует, чтобы потерпевший от воров человек самолично обратился ко мне, — иначе оно потеряет силу.
— Какой срок нужен тебе для розыска?
— Одна ночь, если потерпевший придет ко мне сегодня до захода солнца.
Эти слова вызвали среди гадальщиков шепот и движение.
Лицо костлявого старика, уже предвкушавшего горечь изгнания, осветилось надеждой.
Вельможа с гневным недоумением смотрел в упор на Ходжу Насреддина:
— Ты осмеливаешься лгать мне прямо в лицо! Мне, знающему все ваши хитрости и плутни, мне, который терпит вас здесь, на мосту, только ради того, чтобы не держать на жалованье лишних шпионов!
— В моих словах нет лжи, о сияющий великолепием владыка!
— Хорошо, увидим! Но если ты солгал, гадальщик, лучше бы тебе не родиться на свет. Позвать сюда менялу Рахимбая!
— Почтенный Рахимбай болен, — подобострастно напомнил кто-то из толпившихся вокруг вельможи средних начальников.
— А я не болен? — вспыхнул вельможа. — Я не болен? Уже две ночи не смыкал я глаз, разыскивая этих проклятых коней! Он будет лежать, а я за него отдуваться! Позвать! Принести на носилках!
Восемь стражников, предводительствуемых двумя средними начальниками и одним старшим, устремились к дому купца…
Вельможа был роста среднего, даже — весьма среднего; возникло несоответствие его внешности — его высокому и многовластному чину; с целью исправить эту досадную оплошность природы, он всегда носил узкие лакированные сапоги на чрезмерно высоких каблуках, благодаря чему прибавлял себе роста и величия. Постукивая каблуками по каменным плитам, он прошелся взад-вперед по мосту, затем остановился, правой рукой царственно оперся на каменную ограду, а левую медленно вознес к своим черным усам и принялся поглаживать и покручивать их. Вокруг все благоговейно безмолвствовало — и гнев его мало-помалу начал остывать.
В минуты досуга вельможа не был чужд возвышенным раздумьям, и даже любил их, как признак своего несомненного духовного превосходства над подвластными. "Не в том ли и состоит главная обязанность начальника, чтобы внушить подвластным страх и трепет? — размышлял он. — Достичь же этого проще всего сечением их всех, подряд и без разбора, но непременно сопровождая кару приличествующими назиданиями, без чего она не может возыметь должных благопослед-ствий". Эти раздумья успокоили вельможу, — он почувствовал себя как бы воспарившим на могучих крыльях начальственной мудрости в надзвездные выси, откуда все казалось мелким, ничтожным, заслуживающим не гнева, но одного лишь презрения; взгляд его, устремленный на костлявого старика, не то чтоб смягчился, но словно обрел некую бесплотность и проходил насквозь, не обжигая и не причиняя ран. "Что же касается действительной вины секомого, — продолжал он расширять круг своих мыслей, — то подобные сомнения вовсе не должны иметь доступа в разум начальника, ибо если даже секомый и не виноват в том деле, за которое наказуется, то уж обязательно виноват в каком-нибудь другом деле!" От этой мысли, от ее глубины и силы, у него даже дух захватило; подниматься выше было некуда, выше начиналась мудрость уже божественная, — он воспарил к самым ее границам, и его мысленному взору как бы открылся океан слепящего, непостижимого света!
Дом купца находился неподалеку. Через полчаса носилки вернулись.
Из-под шелковой занавески выполз меняла — желтый, опухший, с нечесаной бородой, испестренной подушечным пухом. Держась за сердце, охая и кряхтя, он поклонился вельможе и сказал слабым, но язвительным голосом:
— Приветствую сиятельного и многовластного Ка-мильбека! Зачем понадобилось ему поднимать со скорбного одра своего жалкого раба, ничтожество которого таково, что он даже не может найти в этом городе защиты от дерзких воров?
— Я позвал почтеннейшего Рахимбая как раз по этому поводу — чтобы доказать ему свое усердие в розысках пропавших коней. Я огорчен и обеспокоен, как никогда!
— О чем же так беспокоится сиятельный Камиль-бек? Ведь теперь его текинские жеребцы обязательно получат первую награду на скачках.
Это был открытый удар — прямо в лицо.
Вельможа побледнел.
— Горечь утраты и сопряженная с нею болезнь помутили разум достойного Рахимбая, — произнес он с холодным достоинством. — Здесь, перед нами, находится один гадальщик, чрезвычайно искусный, по его словам, который берется разыскать пропавших лошадей.
— Гадальщик! И ради этого сиятельный князь поднимает меня, больного, с постели! Нет, пусть уж властительный князь гадает сам, а я удаляюсь.
И он повернулся, чтобы уйти. Вельможа с холодным достоинством произнес:
— В городе распоряжаюсь я! Почтеннейший Ра-химбай вступит сейчас в переговоры с гадальщиком.
Он умел внушать повиновение, этот вельможа! Купец хоть и сморщился, но подошел к Ходже Насреддину:
— Я не верю тебе, гадальщик, и на ломаный грош и говорю с тобою, вынуждаемый к этому властью. У меня из конюшни пропали два чистокровных арабских коня…
— Один белый, а второй черный, — подсказал Ходжа Насреддин, открывая свою китайскую книгу.
— Весь город может подтвердить справедливость твоих слов, о проницательнейший из гадальщиков! — съязвил меняла. — Многие любовались моими конями в день их прибытия из Аравии.
— Белый конь — с маленьким рубцом, не толще шерстяной нитки, под гривой, а черный — с бородавкой в левом ухе, величиною с горошину, — спокойно продолжал Ходжа Насреддин.
Купец опешил.
Об этих приметах знали только двое: он сам и его доверенный конюх, — больше никто.
Язвительная усмешка сбежала с его лица:
— Ты прав, гадальщик! Но как ты проник? Встрепенулся и вельможа, придвинулся ближе. Ходжа Насреддин перевернул страницу своей китайской книги:
— И еще: в хвост белого жеребца вплетена белая заговоренная шелковинка, а в хвост черного — черная.
Этого уже и доверенный конюх не знал: заговоренные шелковинки купец вплетал в хвосты коням самолично и в глубокой тайне, так как прибегать на скачках к волшебству и заговорам было строжайше воспрещено под страхом тюрьмы.
Слова Ходжи Насреддина ошеломили менялу вконец.
Сиятельный Камильбек тоже не остался равнодушен к этим словам. Его мысли понеслись вскачь. "Однако он, того и гляди, в самом деле найдет! Это вовсе не входит в мои расчеты. Мое дело — проявить наибольшее усердие в поисках, а все дальнейшее от меня уже не зависит; найдутся кони или нет, сие — дело аллаха; лучше бы не нашлись, по крайней мере — до скачек… Шайтан подсунул мне этого гадальщика! Но что же делать? Ага, волшебство! Напугать менялу, поймать с поличным, затянуть дознание — тогда его арабы никак уж не попадут на скаковое поле!"
— Что вы скажете, почтеннейший Рахимбай? — зловещим судейским голосом вопросил он.
— Я ничего не знаю ни о каких шелковинках, — сбивчиво забормотал купец, переменившись в лице и выдав этим себя с головой. — Быть может, конюхи сами… без моего ведома… Или старый владелец коней… там еще, в Аравии…
Но здесь он опомнился, сообразив, что коней уже нет и уличить его невозможно.
— Да все это — ложь! — воскликнул он с притворным негодованием. — Гадальщик лжет, клевещет! Если бы нашлись мои кони!..
— Завтра найдутся, — прервал Ходжа Насреддин. — Подожди, моя книга говорит еще что-то… Она говорит, что в подкову на передней правой ноге белого жеребца забит, в числе прочих гвоздей, один золотой, тоже заговоренный. Сверху он прикрыт серой краской, чтобы не отличался от железных. Такой же волшебный гвоздь имеется в подкове черного жеребца… только вот не могу разобрать — на какой ноге.
— Гм! Волшебные гвозди, заговоренные шелковинки! — усмехнулся вельможа. — По долгу службы я должен начать расследование.
А купец от крайнего изумления лишился языка; впрочем, замешательство его длилось недолго — выручила многолетняя торговая привычка ко лжи:
— Не понимаю, о чем он толкует, этот гадальщик. Скорей всего, он просто набивает цену. Пусть он скажет прямо, — сколько хочет за свое гадание и чем отвечает, если оно окажется ложным?
Книга его души была понятна Ходже Насреддину до конца, не то что китайская^ Теперь купец уже не сомневался, что видит перед собой гадальщика, обладающего несомненным даром ясновидения. Желание вернуть пропажу боролось в нем со зловещим призраком тюрьмы. Заговоренные гвозди, волшебные шелковинки, вельможа, пронюхавший об этом… Кроме гадальщика, никто не может помочь в таком деле.
— О цене, так же как и обо всем прочем, мы должны говорить с глазу на глаз, только двое, — сказал Ходжа Насреддин, обращая слова к самому жгучему, самому затаенному желанию купца.
— А втроем нельзя? — обеспокоился вельможа.
— Нет, нельзя, мое гадание потеряет силу. Вельможе пришлось уступить. Он отошел, приказав стражникам расчистить место. Через минуту вокруг Ходжи Насреддина и купца никого не осталось. Главный гадальщик попробовал затаиться в своей нише, но был выброшен оттуда пинками.
— Мы одни, — сказал купец.
— Одни, — подтвердил Ходжа Насреддин.
— Не могу понять, откуда взялись эти гвозди и шелковинки.
— А вот сейчас узнаем, откуда. Ходжа Насреддин потянулся к своей китайской книге.
— Не надо, гадальщик! — поспешно сказал купец. — Это дело вчерашнее, прошлое, а нам надлежит думать…
— О будущем, о завтрашнем деле, — закончил Ходжа Насреддин.
— Вот именно! Было бы хорошо, гадальщик, если бы эти кони вернулись ко мне в том виде… в таком виде… как бы это сказать…
— Без гвоздей и без шелковинок, — я понимаю…
— Тише, гадальщик! Теперь — скажи свою цену.
— Цена сходная, почтенный купец: десять тысяч таньга.
— Десять тысяч! Милостивый аллах, да ведь это же половина их стоимости! Кони обошлись мне с перевозкой из Аравии до самого Коканда в двадцать тысяч таньга.
— Сиятельному Камильбеку ты называл другую цену. Помнишь, там, в лавке, — пятьдесят две тысячи…
У купца выпучились глаза, — всеведение этого удивительного гадальщика заходило, поистине, слишком далеко!
— Это все — твоя книга? — помолчав, боязливым голосом спросил купец.
— Да, она.
— Удивительная книга! Где ты ее раздобыл?
— В Китае.
— И много там, в Китае, подобных книг?
— Одна-единственная на весь мир.
— Слава аллаху, пекущемуся о нашем благополучии! Страшно подумать, что было бы с нами, торговыми людьми, если бы в мире появилась сотня таких книг! Закрой ее, гадальщик, закрой — вид этих китайских знаков тягостен для моего сердца! Хорошо, я согласен на твою цену:
— И не пытайся обмануть меня, купец!
— Я безоружен, а в твоих руках книга как острый меч.
— Завтра ты получишь своих коней. Получишь их без шелковинок и гвоздей, по нашему уговору. Приготовь деньги — золотом, в одном кошельке. А теперь совершим последнее.
Ходжа Насреддин откупорил тыкву, побрызгал волшебной водой на себя и на купца.
Вельможа, начальники, стражники, гадальщики молча наблюдали все это.
Костлявый старик — предводитель гадальщиков — изнемогал от зависти; дважды пытался он подобраться к беседующим, чтобы подслушать, и дважды, пресеченный в своем намерении стражей, был отбрасываем пинками.
С ним сделались корчи, когда он услышал цену гадания.
— Десять тысяч! — хрипло воскликнул он и в беспамятстве повалился на землю.
Поднимать его было некому — все оцепенели, ошеломленные такой неслыханной ценой.
Вельможа многозначительно кашлянул, откровенно усмехнулся, но промолчал.
Зато когда купец отправился домой, по его следу кинулась стая шпионов.
"Значит, и я не буду оставлен их вниманием", — подумал Ходжа Насреддин. И не ошибся: оглянувшись, увидел троих за спиной и еще одного в стороне.
— Гадальщик! — Вельможа пальцем подозвал к себе Ходжу Насреддина. — Помни: кони могут быть возвращены купцу только в моем присутствии, не иначе! И не обязательно тебе с этим делом спешить. Кроме того — шелковинки и гвозди; смотри, чтобы они вдруг не исчезли куда-нибудь — иначе ты пожалеешь о дне своего рождения! Иди!
Ходжа Насреддин свернул коврик и под злобный, завистливый шепот своих собратьев по гадальному ремеслу покинул мост Отрубленных Голов.
Шпионы последовали за ним.
Вы
читали текст повести Леонида Соловьева: Повесть о Ходже Насреддине:
Возмутитель спокойствия.
Классика
литературы (сатиры и юмора) из коллекции рассказов и произведений
известных авторов:
писатель Леонид Васильевич Соловьев.
.................
В последнее время в российских городах появляется много необычных памятников. Не стала исключением и Москва.
1 апреля 2006 года в Москве рядом с метро Молодежная на Ярцевской улице поставили памятник философу, поэту, герою восточных легенд и острослову Ходже Насреддину. Его изваяли в бронзе с книгой в руках вместе с его постоянным спутником ослом. Автор памятника - скульптор Андрей Орлов. Адрес: метро Молодежная (первый вагон из центра). Выход направо на Ярцевскую улицу, д. 25 А.
Весит скульптурная композиция 750 кг.
Интересно то, что Ходжа Насреддин считается народным героем и в Средней Азии, и на Кавказе, и на Среднем и Ближнем Востоке. Поэтому неудивительно, что на открытии памятника присутствовали люди разных национальностей - и таджики, и азербайджанцы, и турки, и узбеки, и афганцы, и казахи.
Любой человек хоть когда-нибудь слышал о Ходже Насреддине. Его часто вспоминают по поводу и без повода. Он побывал в самых немыслимых ситуациях, хитрил, обманывал, выкручивался, шутил, издеваясь над корыстью и невежеством, высмеивал человеческую глупость, при этом оставаясь всегда мудрым.
Памятник очень симпатичный. Ходжа Насреддин с книгой в руках ведет за собой любимого осла. Но вот, если Насреддин выглядит очень реалистично, то осел получился кукольным и напоминает осла Шрека. Отсюда и некоторые диспропорции в фигуре Ходжи и его спутника. Несмотря на то, что никому непонятно, почему он тут стоит и зачем, памятник очень симпатичный и вызывает только добрые чувства. Уши у осла уже натерты до блеска. Очевидно, дети любят на него забираться, хватаясь за них. А может, уже и появилась какая-то примета. Например, подержав осла за уши, станешь мудрее или остроумнее...

Наверное, не стоит уж так серьезно воспринимать этот памятник. Скорее, это городская скульптура, которая стала популярна в последнее время. Обыкновенный элемент городского дизайна. Тем более рядом стоит палатка, где продается шаурма. Вполне в стиле...
Много написано историй про Ходжу Насреддина. Вот одна из них. Насреддин потерял осла. На базаре он стал выкрикивать: «Кто отыщет моего осла, тот получит его в подарок вместе с уздечкой, потником и седлом!» Его спросили, ради чего нужно тратить много сил и искать осла, если он все равно будет отдан в награду. Ходжа с уверенностью ответил: «Да, все так. Но вы просто не испытывали никогда радость находки».

Вот так и москвичи - найдя такую чудесную и необычную скульптуру, получают огромную радость от своей находки.
было на нем, и он горделиво сиял, стоя рядом со своим серым собратом, старинным
и верным спутником Ходжи Насреддина в скитаниях. Но серый ишак ничуть не
смущался столь блистательным соседством, спокойно жевал зеленый сочный клевер и
даже отталкивал своей мордой морду белого ишака, как бы давая этим понять, что,
несмотря на бесспорное превосходство в масти, белый ишак далеко еще не имеет
перед Ходжой Насреддином таких заслуг, какие имеет он, серый ишак.
Кузнецы притащили переносный горн и подковали тут же обоих ишаков,
седельники подарили два богатых седла: отделанное бархатом – для Ходжи
Насреддина и отделанное серебром – для Гюльджан. Чайханщики принесли два чайника
и две китайские наилучшие пиалы, оружейник – саблю знаменитой стали гурда, чтобы
Ходже Насреддину было чем обороняться в пути от разбойников; коверщики принесли
попоны, арканщики – волосяной аркан, который, будучи растянут кольцом вокруг
спящего, предохраняет от укуса ядовитой змеи, ибо змея, накалываясь на жесткие
волосинки, не может переползти через него.
Принесли свои подарки ткачи, медники, портные, сапожники; вся Бухара, за
исключением мулл, сановников и богачей, собирала в путь своего Ходжу Насреддина.
Гончары стояли в стороне печальные: им нечего было подарить. Зачем человеку
нужен в дороге глиняный кувшин, когда есть медный, подаренный чеканщиками?
– Кто это говорит, что мы, гончары, ничего не подарили Ходже Насреддину? А
разве его невеста, эта прекрасная девушка, не происходит из славного и
знаменитого сословия бухарских гончаров?
Гончары закричали и зашумели, приведенные в полное восхищение словами
старика. Потом они дали от себя Гюльджан строгое наставление – быть Ходже
Насреддину верной, преданной подругой, дабы не уронить славы и чести
сословия.
– Близится рассвет, – обратился Ходжа Насреддин к народу. – Скоро откроют
городские ворота. Мы с моей невестой должны уехать незаметно, если же вы пойдете
нас провожать, то стражники, вообразив, что все жители Бухары решили покинуть
город и переселиться на другое место, закроют ворота и никого не выпустят.
Поэтому – расходитесь по домам, о жители Благородной Бухары, пусть будет спокоен
ваш сон, и пусть никогда не нависают над вами черные крылья беды, и пусть дела
ваши будут успешны. Ходжа Насреддин прощается с вами! Надолго ли? Я не знаю и
сам…
На востоке уже начала протаивать узкая, едва заметная полоска. Над водоемом
поднимался легкий пар. Народ начал расходиться, люди гасили факелы, кричали,
прощаясь:
– Добрый путь. Ходжа Насреддин! Не забывай свою родную Бухару!
Особенно трогательным было прощание с кузнецом Юсупом и чайханщиком Али.
Толстый чайханщик не мог удержаться от слез, которые обильно увлажнили его
красные полные щеки.
До открытия ворот Ходжа Насреддин пробыл в доме Нияза, но как только первый
муэдзин протянул над городом печально звенящую нить своего голоса – Ходжа
Насреддин и Гюльджан тронулись в путь. Старик Нияз проводил их до угла, – дальше
Ходжа Насреддин не позволил, и старик остановился, глядя вслед им влажными
глазами, пока они не скрылись за поворотом. Прилетел легкий утренний ветерок и
начал хлопотать на пыльной дороге, заботливо заметая следы.
Нияз бегом пустился домой, торопливо поднялся на крышу, откуда было видно
далеко за городскую стену, и, напрягая старые глаза, смахивая непрошеные слезы,
долго смотрел на бурое, сожженное солнцем взгорье, по которому вилась, уходя за
тридевять земель, серая лента дороги. Он долго ждал, в его сердце начала
закрадываться тревога: уж не попались ли Ходжа Насреддин и Гюльджан в руки
стражников? Но вот, присмотревшись, старик различил вдали два пятна – серое и
белое: они все удалялись, все уменьшались, потом серое пятно исчезло, слившись
со взгорьем, а белое виднелось еще долго, то пропадая в лощинах и впадинах, то
показываясь опять. Наконец и оно исчезло, растворилось в поднимающемся мареве.
Начинался день, и начинался зной. А старик, не замечая зноя, сидел на крыше в
горькой задумчивости, его седая голова тряслась, и душный комок стоял в горле.
Он не роптал на Ходжу Насреддина и свою дочку, он желал им долгого счастья, но
ему было горько и больно думать о себе, – теперь совсем опустел его дом, и
некому скрасить звонкой песней и веселым смехом его одинокую старость. Подул
жаркий ветер, всколыхнул листву виноградника, взвихрил пыль, задел крылом
горшки, что сушились на крыше, и они зазвенели жалобно, тонко, протяжно, словно
бы и они грустили о покинувших дом…
Нияз очнулся, услышав какой-то шум за спиной, оглянулся: к нему на крышу
поднимались по лестнице один за другим три брата, все – молодец к молодцу, и все
– гончары. Они подошли и склонились перед стариком в поклонах, преисполненные
глубочайшего уважения.
– О почтенный Нияз! – сказал старший из них. – Твоя дочка ушла от тебя за
Ходжой Насреддином, но ты не должен горевать и роптать, ибо таков вечный закон
земли, что зайчиха не живет без зайца, лань не живет без оленя, корова не живет
без быка и утка не живет без селезня. А разве девушка может прожить без верного
и преданного друга, и разве не парами сотворил аллах все живущее на земле,
разделив даже хлопковые побеги на мужские и женские. Но, чтобы не была черной
твоя старость, о почтенный Нияз, решили мы все трое сказать тебе следующее: тот,
кто породнился с Ходжой Насреддином, тот породнился со всеми жителями Бухары, и
ты, о Нияз, породнился отныне с нами. Тебе известно, что прошлой осенью мы,
скорбя и стеная, похоронили нашего отца и твоего друга, почтеннейшего Усмана
Али, и ныне у нашего очага пустует место, предназначенное для старшего, и мы
лишены ежедневного счастья почтительно созерцать белую бороду, без которой, как
равно и без младенческого крика, дом считается наполовину пустым, ибо хорошо и
спокойно бывает на душе у человека только тогда, когда он находится посередине
между тем, обладающим бородою, кто дал ему жизнь, и между тем, лежащим в
колыбели, которому он сам дал жизнь. И поэтому, о почтенный Нияз, мы просим тебя
преклонить слух к нашим словам, и не отвергать нашей просьбы, и войти в наш дом,
занять у нашего очага место, предназначенное для старшего, и быть нам всем троим
за отца, а нашим детям за дедушку.
Братья просили так настойчиво, что Нияз не мог отказаться: он вошел к ним в
дом и был принят с великим почтением. Так на старости лет он за свою честную и
чистую жизнь был вознагражден самой большой наградой, какая только существует на
земле для мусульманина: он стал Нияз-бобо, то есть дедушка, глава большой семьи,
в которой у него было четырнадцать внуков, и взор его мог наслаждаться
беспрерывно, переходя с одних розовых щек, измазанных тутовником и виноградом,
на другие, не менее грязные. И слух его с тех пор никогда не был удручаем
тишиною, так что ему с непривычки приходилось даже иной раз тяжеленько и он
удалялся в свой старый дом отдохнуть и погрустить о таких близких его сердцу и
таких далеких, ушедших неизвестно куда… В базарные дни он отправлялся на площадь
и расспрашивал караванщиков, прибывших в Бухару со всех концов земли: не
встретились ли им по дороге два путника – мужчина, под которым серый ишак, и
женщина на белом ишаке без единого темного пятнышка? Караванщики морщили свои
загорелые лбы, отрицательно качали головами: нет, такие люди им по дороге не
попадались.
Ходжа Насреддин, как всегда, исчез бесследно, чтобы вдруг объявиться там,
где его совсем не ожидают.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ, которая могла бы послужить началом для новой книги
Я совершил семь путешествий, и про каждое путешествие есть удивительный
рассказ, который смущает умы.
"Тысяча и одна ночь"
И он объявился там, где его совсем не ожидали. Он объявился в Стамбуле.
Это произошло на третий день по получении султаном письма от эмира
бухарского. Сотни глашатаев разъезжали по городам и селениям , оповещая
народ о смерти Ходжи Насреддина. Обрадованные муллы дважды в день, утром и
вечером, оглашали в мечетях эмирское письмо и возносили благодарность аллаху.
Султан пировал во дворцовом саду, в прохладной тени тополей, орошаемых
влажной пылью фонтанов. Вокруг теснились визири, мудрецы, поэты и прочая
дворцовая челядь, жадно ожидавшая подачек.
Черные рабы двигались вереницами с дымящимися подносами, кальянами и
кувшинами в руках. Султан был в очень хорошем расположении духа и беспрерывно
шутил.
– Почему сегодня, несмотря на такую жару, в воздухе чувствуется сладостная
легкость и благоухание? – лукаво прищурившись, спрашивал он мудрецов и поэтов. –
Кто из вас достойно ответит на наш вопрос?
И они, кидая умильные взгляды на кошелек в его руках, отвечали:
– Дыхание нашего сиятельного повелителя насытило воздух сладостной
легкостью, а благоухание распространилось потому, что душа нечестивого Ходжи
Насреддина перестала наконец источать свой гнусный смрад, отравляющий ранее весь
мир.
В стороне, наблюдая за порядком, стоял охранитель спокойствия и благочестия
в Стамбуле – начальник стражи, отличавшийся от своего достойного бухарского
собрата Арсланбека разве только еще большей свирепостью да необычайной худобой,
каковые качества сопутствовали в нем друг другу, что было давно замечено
жителями Стамбула, и они еженедельно с тревогой в глазах расспрашивали дворцовых
банщиков о состоянии почтенных телес начальника, – если сведения были зловещими,
то все жители, обитавшие близ дворца, прятались по домам и без крайней
необходимости не выходили никуда до следующего банного дня. Так вот, этот самый
приводящий в трепет начальник стоял в стороне; его голова, увенчанная чалмой,
торчала на длинной и тонкой шее, как на шесте (многие жители Стамбула затаенно
вздохнули бы, услышав такое сравнение!).
Все шло очень хорошо, ничто не омрачало праздника и не предвещало беды.
Никто и не заметил дворцового надзирателя, который, привычно и ловко
проскользнув между придворными, подошел к начальнику стражи, что-то шепнул ему.
Начальник вздрогнул, переменился в лице и торопливыми шагами вышел вслед за
надзирателем. Через минуту он вернулся – бледный, с трясущимися губами.
Расталкивая придворных, он подошел к султану и в поклоне сломался перед ним
пополам:
– О великий повелитель!..
– Что там еще? – недовольно спросил султан. – Неужели ты даже в такой день
не можешь удержать при себе свои палочные и тюремные новости? Ну, говори скорей!
– О сиятельный и великий султан, язык мой отказывается…
Султан встревожился, сдвинул брови. Начальник стражи полушепотом закончил:
– Он – в Стамбуле!
– Кто? – глухо спросил султан, хотя сразу понял, о ком идет речь.
– Ходжа Насреддин!
Начальник стражи тихо произнес это имя, но придворные имеют чуткий слух; по
всему саду зашелестело:
– Ходжа Насреддин! Он – в Стамбуле!.. Ходжа Насреддин в Стамбуле!
– Откуда ты знаешь? – спросил султан; голос его был хриплым. – Кто сказал
тебе? Возможно ли это, если мы имеем письмо эмира бухарского, в котором он своим
царственным словом заверяет нас, что Ходжа Насреддин больше не пребывает в
живых.
Начальник стражи подал знак дворцовому надзирателю, и тот подвел к султану
какого-то человека с плоским носом на рябом лице, с желтыми беспокойными
глазами.
– О повелитель! – пояснил начальник стражи. – Этот человек долго служил
шпионом при дворце эмира бухарского и очень хорошо знает Ходжу Насреддина. Потом
этот человек переехал в Стамбул, и я взял его на должность шпиона, в каковой
должности он состоит и сейчас.
– Ты видел его? – перебил султан, обращаясь к шпиону. – Ты видел
собственными глазами? Шпион ответил утвердительно.
– Но ты, может быть, обознался?
Шпион ответил отрицательно. Нет, он не мог обознаться. И рядом с Ходжой
Насреддином ехала какая-то женщина на белом ишаке.
– Почему же ты не схватил его сразу? – воскликнул султан. – Почему ты не
предал его в руки стражников?
– О сиятельный повелитель! – ответил шпион и повалился, дрожа, на колени. –
В Бухаре я попал однажды в руки Ходжи Насреддина, и если бы не милость аллаха,
то не ушел бы от него живым. И когда я сегодня увидел его на улицах Стамбула, то
зрение мое помутилось от страха, а когда я очнулся, то он уже исчез.
– Таковы твои шпионы! – воскликнул султан, блеснув глазами на согнувшегося
начальника стражи. – Один только вид преступника приводит их в трепет!
Он оттолкнул ногой рябого шпиона и удалился в свои покои, сопровождаемый
длинной цепью черных рабов.
Визири, сановники, поэты и мудрецы тревожно гудящей толпой устремились к
выходу.
Через пять минут в саду никого не осталось, кроме начальника стражи,
который, глядя в пустоту остановившимися мутными глазами, бессильно опустился на
мраморный край водоема и долго сидел, внимая в одиночестве тихому плеску и смеху
фонтанов. И казалось, он в одно мгновение так похудел и высох, что если бы
жители Стамбула увидели его, то бросились бы врассыпную кто куда, не подбирая
«…А дорога все звенела, дымилась под копытами ишака. И звучала песня Ходжи Насреддина. За десять лет он побывал всюду: в Багдаде, Стамбуле и Тегеране, в Бахчисарае, Эчмиадзине и Тбилиси, в Дамаске и Трапезунде, он знал все эти города и еще великое множество других, и везде он оставил по себе память».
И вот несколько лет назад Ходжа Насреддин вместе со своим ишаком появился в Москве. Заняли они свое место рядом со станцией метро «Молодежная» совсем скромно, как будто бы не желая привлекать к себе внимания прохожих. А место это необычайно оживленное, всегда много народа, вокруг все спешат. Куда-то спешит и Ходжа Насреддин, а его верный спутник остановился лишь на одно мгновение, робко предлагая своему хозяину немного отдохнуть. Ходжа оглянулся, но он вовсе не желает здесь задерживаться. На лице у него добрая улыбка, а милый ишачок внимательно слушает своего хозяина, понимая его, как кажется, с полуслова. Пройдет минута, и они скроются в толпе.
Но прохожих они притягивают, словно мощный магнит. Едва ли не каждый желает непременно сфотографироваться рядом с ними. Дети, которые постарше, сразу же сами забираются верхом на ишака, тех, что помладше, усаживают их родители. Да и взрослые люди не могут удержаться от желания посидеть на ишаке самого Насреддина! Весь день до позднего вечера вокруг них царит оживление, слышны веселые голоса. Меняются фотографы, меняются те, кого фотографируют. Трудно улучить минуту, когда около них никого нет. Что и говорить, нынешняя жизнь у бедного ишака весьма нелегкая, но он нисколько не унывает!
Для большинства читателей знакомство с Ходжой Насреддином, скорее всего, началось не с книги, а с кино. Самый известный фильм «Насреддин в Бухаре» был поставлен во время войны в 1943 году. Авторы сценария Л.Соловьев и В.Виткович, режиссер Я.Протазанов, в главной роли снимался народный артист СССР Лев Свердлин. Этот фильм видели очень и очень многие. Но был еще один фильм: «Похождения Насреддина», снятый на ташкентской киностудии в 1946 году. Автор сценария В.Виткович, режиссер Наби Ганиев. Главную роль в нем исполнил народный артист СССР Раззак Хамраев. Два замечательных актера, два замечательных фильма. Однако последний из них, кажется, видели совсем немногие. Возможно, даже мало кто из нынешних зрителей знает о его существовании.
Автор этой скульптурной композиции Андрей Юрьевич Орлов, видимо, следовал своему собственному замыслу и представлению об этом персонаже. Его Ходжа Насреддин не напоминает ни одного из актеров, которые исполняли эту роль в кинофильмах. Композиция простая и выразительная, Насреддин со своим ишаком сразу же стали всеобщими любимцами. Как приятно в повседневной уличной сутолоке, среди озабоченных, зачастую раздраженных прохожих, неожиданно встретить старого, доброго знакомого, любимого литературного героя! Наверняка у всякого, кто увидит их здесь, настроение изменится к лучшему и сделается он, хотя бы на мгновение, чуть добрее.
Автору «Повести о Ходже Насреддине» судьбою было назначено встретить своего героя. Писатель Леонид Васильевич Соловьев (1906-1962) родился далеко от Бухары, но случилось это под небом Востока. Его отец В.А. Соловьев служил помощником инспектора северо-сирийских школ Императорского Православного общества в городе Триполи, на восточном берегу Средиземного моря (современный Ливан). Здесь встретились, познакомились и поженились родители будущего писателя, здесь у них появился на свет их сын Леонид. Но на этой земле побывал когда-то и сам Ходжа Насреддин: «Покинув Бухару, Ходжа Насреддин со своей женой Гюльджан направился сначала в Стамбул, а оттуда к арабам. Он возмутил спокойствие поочередно в Багдаде, Медине, Бейруте и Басре, привел в небывалое смятение Дамаск, потом завернул мимоходом в Каир» . («Очарованный принц».)
В 1909 году, когда мальчику было около трех лет, семья его вернулась на родину и поселилась в Бугуруслане. Но в доме сохранялись воспоминания и рассказы о далекой, экзотической стране. В 1920 (или 1921) году семья переехала в Коканд, его отец был назначен здесь заведующим железнодорожной школой. Легенды и рассказы о Востоке превратились в реальность.
Печататься молодой писатель начинал в газете «Туркестанская правда», в дальнейшем «Правда Востока», в этой газете он работал специальным корреспондентом до 1930 года. Он очень хорошо знал и любил узбекский и таджикский фольклор. Леонид Соловьев стал автором многих произведений, но самое известное из них – это «Повесть о Ходже Насреддине». Сам он шутливо говорил об этом: «Какую свинью подложил мне этот Ходжа Насреддин – сделал меня автором одной книги…»
Первая книга о Ходже Насреддине «Возмутитель спокойствия» была опубликована в 1939 (или 1940) году. Успех повести пришелся на предвоенные годы. В сентябре 1946 года писатель был арестован, его обвинили в подготовке террористического акта. Поэтому, наверное, нет его фамилии, среди авторов фильма Н.Ганиева, как сценариста. Свою вторую книгу о Ходже Насреддине «Очарованный принц» он писал, находясь в заключении в мордовском лагере, где был сначала ночным сторожем в цехе, а потом ночным банщиком. Ночная работа позволяла ему сосредоточиться над книгой, бумагу присылали родители и сестры. Так была написана одна из самых добрых и любимых наших книг. Над книгой писатель работал до конца 1950 года. На свободу он вышел в июне 1954 года, этот год указал как год окончания работы над своей книгой. В 1956 году обе книги «Повести о Ходже Насреддине» впервые были выпущены в Ленинграде в одном томе.
Автор биографического очерка о нем (в послесловии к однотомному изданию 1971 года) Дм.Молдавский не мог в те времена рассказать об этом читателям. Теперь нам понятен смысл его слов, спрятанный между строк: «После войны имя Леонида Соловьева в течение нескольких лет не упоминалось. Но и в эти годы писатель продолжал работать. Старый друг его Ходжа Насреддин пришел снова к нему в самое тяжелое время жизни, пришел, чтобы вдохнуть надежду и веру в грядущее. Он помог сохранить ему юмор и оптимизм, которым так поражались первые слушатели этого произведения…»
Уже после смерти писателя Дм.Молдавский встречался в Намангане с его сестрой Екатериной Васильевной, она ему говорила: «Леонид, прежде всего, был и до конца остался «азиатом». Запаса впечатлений, вынесенных из Средней Азии, хватило ему на всю жизнь. Из этих впечатлений сложилось самое значительное произведение Леонида – «Повесть о Ходже Насреддине».
И еще она говорила: «Простые герои книги Леонида – это люди, которых он встречал в повседневной жизни. А вот эмиры, ханы, вельможи – это персонажи сказок».
Персонаж этой старой открытки, несомненно, был одним из тех людей из народа, благодаря которым и сложилась легенда о Ходже Насреддине. Фотограф встретил этого молодого человека в далекие времена где-то в Маргеланском уезде, беззаботного бродягу и весельчака, который разъезжал по городам, рассказывал, наверное, разные истории, развлекая своими шутками постояльцев караван сараев, тем самым зарабатывал себе на пропитание. Можно заметить, что он не бедствовал, есть у него свой собственный транспорт, его ишак. Одет он отнюдь не в лохмотья, да и веселое его настроение вовсе не выглядит притворным. Не похож он на голодного нищего. Стало быть, его рассказы и шутки ценились и вполне достойно оплачивались. Как знать, быть может, и Леонид Васильевич Соловьев, который в 1924-25 годах много разъезжал по Ферганской области, работая специальным корреспондентом, повстречал когда-то этого человека, к тому времени уже весьма постаревшего.
«Есть в Аравии реки, которых только среднее течение открыто человеческому взору, а начало и конец прячутся в подземных глубинах. Жизнь Ходжи Насреддина можно уподобить такой реке: всё, что мы о нём знали, относилось к его среднему возрасту, от двадцати до пятидесяти лет; детские же годы, равно как и старость, пребывали в сокрытии.
Восемь гробниц в разных частях света носят его славное имя; где среди них единственная? Да может быть, её и нет среди этих восьми; может быть, ему достойной гробницей послужило море или горное туманное ущелье, а надгробным плачем над ним был дикий вой морского урагана или необъятный, медлительно-тяжкий гул снежной лавины...
Что касается истоков его бытия - то знают, что родился и вырос он в Бухаре, но как он жил в детстве, какие могучие кузнецы давали закал его сердцу, какие мастера оттачивали его разум, кто из мудрецов открыл ему природу его неукротимого духа, - всё это оставалось до сих пор неизвестным»*.
______________________
* Леонид Соловьёв. Повесть о Ходже Насреддине. Л., 1988.
Так написал в своей знаменитой книге «Повесть о Ходже Насреддине» писатель и сценарист Леонид Соловьёв*. Это, пожалуй, лучшее произведение на русском языке, рассказывающее о легендарной жизни прославленного мудреца.
____________________
* Леонид Васильевич Соловьёв (1905 - 1962) родился в Триполи (Ливан). В 1925-1929 гг. преподавал в Коканде, затем два года был специальным корреспондентом газеты «Правда Востока». В 1933 г. он окончил сценарный факультет ГИКа. С этого времени писал киносценарии и романы, преимущественно о Среднем Востоке и морских подвигах.
На Востоке утверждают, что Ходжа Насреддин - историческое лицо. По советской традиции, когда всё лучшее должно было быть (и зачастую действительно было) нашим, Соловьёв придерживался версии, что Ходжа - уроженец Бухары. После развала СССР, когда Узбекистан стал для нас чужой страной, но для россиян распахнули двери турецкие курорты, гораздо популярнее стала версия о его турецком происхождении.
Установить истину чрезвычайно трудно. Ведь в разных странах его даже зовут по-разному: узбеки и турки - Ходжой Насреддином; афганцы - Насреддином Афанди (Эфенди, Эпенди); азербайджанцы и чеченцы - Муллой (или Моллой) Насреддином; называют его и Анастратином, и Несартом, и Насыром, и Наср ад-дином. При этом надо учитывать, что имена Ходжа, Афанди или Мулла не означают духовного сана, поскольку в старину на Востоке принято было так называть всех наиболее уважаемых и образованных людей
Согласно турецкой версии, Ходжа Насреддин (1208 - 1284) родился в деревне Хорту* близ местечка Сиврихисар** в турецкой Анатолии.
_________________________
* Ныне деревня Насреддин-ходжа.
** Видимо, точное название его Сиври-исар (турецк.) - «крепость с заостренными стенами»; дело в том, что местечко со всех сторон окружено скалистыми горами с заострёнными вершинами.
Отца Насреддина звали Абдуллах Эфенди, он был имамом деревенской мечети, человеком для своего времени весьма образованным. Зато мать его, красавица Сыдыка Хатун, была безграмотной, к тому же очень вздорной и скандальной женщиной. Редко кто сомневается, что знаменитые анекдоты о склочной жене Насреддина - это истории из жизни его родителей.
Начальное образование Насреддин получил в медресе. Потом долгое время работал старшим учителем, почему его и стали называть Ходжой (учитель), а после смерти отца он занял место в деревенской мечети. Некоторые считают, что остроумец был кадием - народным судьёй и одновременно писал басни*.
_________________________
* Басни Ходжи Насреддина впервые были изданы в 1923 г. в Париже.
Умер настоящий Насреддин якобы в городе Акшехире, километрах в двухстах южнее родной деревни. Там сейчас и находится одна из его гробниц, та самая, на которой высечена знаменитая перевёрнутая дата его смерти - 386 г. по восточному календарю. Согласно преданию, это была последняя шутка хитреца, который велел начертать год его смерти наоборот - на самом деле на гробовой плите должна была стоять цифра 683.
Согласно другой версии, Ходжа Насреддин жил при дворе арабского халифа Гарун-ар-Рашида* и был выдающимся учёным. Он проповедовал некое ложное учение, и его стали преследовать учителя веры. Тогда Насреддин притворился безумцем, стал шутом и получил возможность свободно говорить всё, что думал.
_________________
* Гарун-аль-Рашид (Харун-ар-Рашид) (763 или 766 - 809) - арабский халиф, глава Аббасидского халифата с 786 г. Правление его связано с массовыми репрессиями знати. Среди казнённых оказался визирь Джафар, который по сказкам «Тысячи и одной ночи» является самым близким другом и спутником халифа во время ночных путешествий по Багдаду.
Как бы там ни было, сегодня Ходжа Насреддин является прославленным героем фольклора многих стран Ближнего и Среднего Востока и Центральной Азии. Остряк-философ и неунывающий бродяга, ходит он по свету со своим любимым ослом и учит людей жизни, защищает бедных, наказывает богачей и злодеев, что, впрочем, одно и то же.
Кстати, под ослом обычно принято рассматривать бессловесный народ - и тягловая сила, и транспорт, и терпеливый, безмолвный слуга. Для Насреддина он ещё верный друг, который никогда не предаст и поможет в трудную минуту. Правда, Насреддин не стесняется и пошутить над бессловесным животным с выгодой для себя. Напомню знаменитую притчу.
Однажды Ходжа Насреддин стал повсюду хвастаться, что может научить своего осла говорить. Узнал о том султан и призвал хвастуна к ответу. Насреддин предложил оплатить ему труды, а через двадцать лет он будет готов показать повелителю говорящего осла. Султан повелел выплатить названную сумму и стал ждать. Когда жена вздумала ругать Ходжу за глупость, где это видано - научить осла человечьей речи, мудрец ответил:
Успокойся! За двадцать лет кто-то наверняка помрёт - либо ишак, либо султан.
Короткие истории-притчи о Ходже Насреддине относят к особой школе суфизма*. При этом остроумные притчи, близкие по жанру к анекдоту, представляют собой уникальное явление.
_________________
* Суфизм (от араб. суф - грубая шерстяная ткань, власяница) - мистическое течение в исламе; ему характерен аскетизм и учение о постепенном приближении через мистическую любовь к познанию Бога.
«Суфизм отрицает возможность постижения истины традиционными методами, применяемыми в повседневной жизни, то есть формальной логикой и шаблонным мышлением. Для утончения восприятия (с этого начинается собственно Путь) необходимо выйти за рамки стандарта, изменить точку отсчёта и саму систему координат - стать необычным. Такой метод “отстранения” весьма характерен для историй о Мулле Насреддине, и, в результате, самые заурядные, казалось бы, бытовые ситуации, увиденные в необычном ракурсе, приобретают новый, глубоко философский смысл. Насреддин, который является истинным суфием, часто использует особую дервишскую технику, заключающуюся в том, что он играет роль обывателя, непосвящённого человека (суфии называют это “путём упрёка”), чтобы человек смог отразиться в ситуации, как в зеркале, и получить нужный урок»*.
_____________
* Идрис Шах. Мудрость идиотов. Подвиги несравненного муллы Насреддина. Суфийские притчи. М., 1993
Остроумие Насреддина прославило его в веках. Народным любимцем он, видимо, стал уже при жизни. Со временем слава его не убавилась, а столь усилилась, что ныне у некоторых народов Востока даже сложилась традиция - если кто-то произносит в обществе имя Ходжи Насреддина, он обязан рассказать семь историй из жизни остроумца, а в ответ на это каждый слушатель также должен рассказать свои семь историй о Ходже. По преданию, семь историй о Насреддине, изложенных в определённой последовательности, могут привести человека к озарению и мгновенному постижению истины.
Первые лятаиф - анекдоты о Насреддине - записаны в Турции в XVI в. Со временем они были собраны в книге. Первая книга анекдотов о Насреддине появилась в Турции в 1837 - 1838 гг. В 1859 г. востоковед Малауф перевёл их на французский язык и издал в Париже. С этого времени Ходжа стал популярным героем и у европейских народов.
В мире установлено несколько памятников Ходже Насреддину. Самые известные - у въезда в Сиврихисар и в Хорту, а также в Бухаре. Недавно памятник остроумцу появился в День смеха в Москве на Ярцевской улице. Скульптор Андрей Орлов*. Любопытно, что на всех памятниках Насреддину сопутствует ослик.
_________________________
* Андрей Юрьевич Орлов (р. 1946) - русский скульптор; в России и за рубежом установлено более 20 памятников автора, в том числе: в Москве - барону Мюнхгаузену, Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону; под Калугой - Маленькому принцу; в Подольске - Петру и Февронии и Золотой рыбке и др.
Классикой советского кинематографа стал фильм Якова Протозанова* «Насреддин в Бухаре», снятый во время Великой Отечественной войны в 1943 г. в Ташкенте. Автором сценария был Леонид Соловьёв, а роль Ходжи Насреддина исполнил выдающийся актёр Лев Свердлин**.
______________________
* Яков Александрович Протозанов (1881 - 1945) - один из ведущих режиссёров мирового немого кино. В СССР снял такие знаменитые фильмы, как «Аэлита» (1924), «Закройщик из Торжка» (1925), «Процесс о трёх миллионах» (1926), «Праздник святого Йоргена» (1930) и другие.
** Лев Наумович Свердлин (1901 - 1969) - один из ведущих актёров советского кино; народный артист СССР.